|
I
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Ранние годы — Первые сочинения — Учёба в институте
(1863—1882)
 ЁДОР СОЛОГУБ РОДИЛСЯ 17 февраля (1 марта по н. ст.) 1863 года в Санкт-Петербурге в семье портного, бывшего крестьянина Полтавской губернии, незаконного сына помещика, Кузьмы Афанасьевича Тетерникова (в официальных бумагах он назван Тютюниковым). Через два года родилась сестра писателя, Ольга. Семья жила бедно, хотя отец смог устроиться самостоятельно: с женой и детьми в собственной квартире, но Кузьма Афанасьевич прожил недолго: в 1867 году, когда его сыну было четыре года, он умер от чахотки. Мать попыталась продолжать самостоятельную жизнь, держала одно время прачечную, но трудности вынудили её вернуться «одной прислугой» в семью Агаповых, старых петербургских бар, у которых она когда-то прежде служила. ЁДОР СОЛОГУБ РОДИЛСЯ 17 февраля (1 марта по н. ст.) 1863 года в Санкт-Петербурге в семье портного, бывшего крестьянина Полтавской губернии, незаконного сына помещика, Кузьмы Афанасьевича Тетерникова (в официальных бумагах он назван Тютюниковым). Через два года родилась сестра писателя, Ольга. Семья жила бедно, хотя отец смог устроиться самостоятельно: с женой и детьми в собственной квартире, но Кузьма Афанасьевич прожил недолго: в 1867 году, когда его сыну было четыре года, он умер от чахотки. Мать попыталась продолжать самостоятельную жизнь, держала одно время прачечную, но трудности вынудили её вернуться «одной прислугой» в семью Агаповых, старых петербургских бар, у которых она когда-то прежде служила.  В семье Агаповых и прошло всё детство и отрочество будущего писателя. Двойственность жизни — с одной стороны, господа его баловали и он был на особом положении (читал книги, журналы, слушал музыку и часто посещал театр), с другой — чад и угар кухни, в которой трудилась его мать, с жестокостью вымещавшая на детях тяготы своей жизни, — развила в юном Фёдоре Тетерникове отчуждённость и скрытность. Частые порки розгами (а били, практически, за всё, хотя поводов, вроде, не было: Фёдор был прилежным учеником и помощником) и размолвки с матерью не оставляли горечи в сердцах детей, свыкнувшихся с безжалостной справедливостью кары: это был глубоко закрытый семейный круг, в который они не посвящали никого. Оттого утраты близких — матери (ум. в 1894) и сестры (ум. в 1907) — Сологубом переносились очень тяжело. Представление о той поре жизни можно найти в рассказе «Утешение» (1896), воспроизводящим с почти автобиографической точностью обстановку детства автора, который не оставил после себя ни автобиографии, ни воспоминаний, и крайне редко претворял эпизоды своей личной жизни в фабулу литературного произведения. В семье Агаповых и прошло всё детство и отрочество будущего писателя. Двойственность жизни — с одной стороны, господа его баловали и он был на особом положении (читал книги, журналы, слушал музыку и часто посещал театр), с другой — чад и угар кухни, в которой трудилась его мать, с жестокостью вымещавшая на детях тяготы своей жизни, — развила в юном Фёдоре Тетерникове отчуждённость и скрытность. Частые порки розгами (а били, практически, за всё, хотя поводов, вроде, не было: Фёдор был прилежным учеником и помощником) и размолвки с матерью не оставляли горечи в сердцах детей, свыкнувшихся с безжалостной справедливостью кары: это был глубоко закрытый семейный круг, в который они не посвящали никого. Оттого утраты близких — матери (ум. в 1894) и сестры (ум. в 1907) — Сологубом переносились очень тяжело. Представление о той поре жизни можно найти в рассказе «Утешение» (1896), воспроизводящим с почти автобиографической точностью обстановку детства автора, который не оставил после себя ни автобиографии, ни воспоминаний, и крайне редко претворял эпизоды своей личной жизни в фабулу литературного произведения.
Свой поэтический дар Фёдор ощутил в возрасте двенадцати лет, а первые дошедшие до нас законченные стихотворения датируются 1878 годом. В это время он очень много и разнообразно читал, особенное впечатление произвели на него романы «На высоте» Ауэрбаха, «Преступление и наказание», «Робинзон Крузе», «Дон-Кихот», «Король Лир» — последние не только были прочитаны множество раз, но буквально изучены, строка за строкою. Из поэтов Фёдор в ту пору особенно увлекался Некрасовым, что примечательно, — почти все стихи этого смертельно мрачного, в чём-то даже декадентского, поэта, скрывшегося под личиной гражданского лирика, он знал наизусть и считал гораздо выше Лермонтова и Пушкина. Повествовательная, лишённая метафор и «красивостей», и вместе с тем лёгкая, поэзия Некрасова отразилась в стихах первых лет Сологуба, для которых характерны прозаическое отношение к лирическому сюжету, сценки или рассуждения, более привычные для реалистической повести или романа, внимание к бытовым деталям, не отличающимся поэтичностью, прозрачные простые сравнения.
В 1878 году Фёдор Тетерников поступил в Санкт-Петербургский Учительский институт. Институт этот был особенный. Под руководством высокообразованного и прогрессивного директора К. К. Сент-Илера в институте преподавали самые передовые педагоги того времени. Атмосфера свободы личности развивали лучшие качества учеников. Поступить в него помогли Агаповы и учитель Владимирского училища, принимавший деятельное участие в школьной судьбе Фёдора. В институте он учился и жил (заведение было на интернатной основе) четыре года и учился прилежно, так как хотел скорее стать на ноги и жить самостоятельно, и тем самым избавить мать от унизительного труда. Среди товарищей Фёдор Тетерников выделялся своею нелюдимостью и внешним видом. «Ни вина, ни пива не пил, рестораны и портерные не посещал. Даже в день институтского праздника держался отдельно и не принимал участия в танцах и попойке», — спустя полвека вспоминал сокурсник по институту И. И. Попов.
В эти годы Сологуб много переводил: Шекспир, Гейне, Гёте; перекладывал стихи венгерских, польских поэтов, исландскую сагу «Эдда». Также пробовал писать прозу: в 1879 году был начат роман-эпопея «Ночные росы» о судьбах трёх поколений, а также теоретическое исследование о форме романа. И хоть столь грандиозный замысел не был завершён, он много дал юному писателю, будучи необходимой литературной практикой.
В последний год учёбы была начата поэма «Одиночество», такая же масштабная по своей идее, и также имевшая автобиографические мотивы. Посвящалась она Н. Некрасову. Герой поэмы — юноша, умирающий от болезни, живущий одиноко и безучастно, ничего не добившийся, хотя мечтавший о подвиге, но отдавший самого себя порокам: странным образом в одном лице были соединены мечтатель, могущий быть подвижником, и эгоист-эстет, презирающий толпу. Так в гражданскую тематику проникают элементы эротического и болезненного, столь характерные для будущего русского декадентства. Сам Фёдор сочувствовал демократическим настроениям того времени (в домашнем кругу горячо отстаивал правоту Веры Засулич, стрелявшей в 1878 году в вице-губернатора Петербурга), но идейной близости с народом не находил.
...Но ему как-то не приходит в голову пожертвовать собою за других, — пишет Сологуб о схожем герое в набросках к очерку того же времени, «Об одиночестве». — Если же он об этом и думает, то это сопровождается такими тщеславными мечтами, что ему самому потом делается противно. И эта дума о себе приводит к тому убеждению, что человек не должен дорожить жизнью: будущее для нас ничего не стоит потому, что мы его не имеем, а между этим будущим и смертью есть ли разница? После смерти этой разницы мы не найдём. Весь вопрос: быть или не быть? Но ответ: не быть — должен быть приятен человеку, которому тяжело быть...
Работать над поэмой «Одиночество» Фёдор продолжал всё время до конца 1883 года.
Учительский институт Ф. Тетерников закончил в июне 1882 года, защитив с отличием диплом «Животный эпос в сказках русского народа». Через месяц, взяв мать и сестру, он уехал учительствовать в северные губернии — сначала в Крестцы, затем в Великие Луки и Вытегру, — в общей сложности проведя десять лет в провинции.

II
ГОДЫ В ПРОВИНЦИИ
Первые публикации — Служба в северных губерниях — Стихи 1880-х
(1882—1892)
 КРЕСТЦАХ, МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ Новгородской губернии, Сологуб провёл три года, будучи учителем Крестецкого народного училища. Он продолжал писать стихи, поэму «Одиночество», отрывки из которой в течении 1883 года посылал своему бывшему наставнику по Учительскому институту, редактору журнала «Русский начальный учитель» В. А. Латышеву. КРЕСТЦАХ, МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ Новгородской губернии, Сологуб провёл три года, будучи учителем Крестецкого народного училища. Он продолжал писать стихи, поэму «Одиночество», отрывки из которой в течении 1883 года посылал своему бывшему наставнику по Учительскому институту, редактору журнала «Русский начальный учитель» В. А. Латышеву. 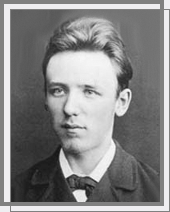 Латышев готов был содействовать публикации поэмы, после того как она будет завершена, чего так и не случилось: возможно, повлияла постоянная критика Латышева, считавшего поэму несколько рискованной и тяжёлой, или замысел нового романа, идейно наследующего поэму. На этот раз работа над романом (будущие «Тяжёлые сны») шла более обстоятельно, заняв долгие годы, и была доведена до конца. Латышев готов был содействовать публикации поэмы, после того как она будет завершена, чего так и не случилось: возможно, повлияла постоянная критика Латышева, считавшего поэму несколько рискованной и тяжёлой, или замысел нового романа, идейно наследующего поэму. На этот раз работа над романом (будущие «Тяжёлые сны») шла более обстоятельно, заняв долгие годы, и была доведена до конца.
Первой же публикацией стала басня «Лисица и ёж», напечатанная в детском журнале «Весна» 28 января 1884 года за подписью «Те-рников»; эта дата стала началом литературной деятельности Фёдора Сологуба. В последующие годы было напечатано ещё несколько стихотворений в мелких газетах и журналах.
Стихотворения тех лет ещё немного говорили о собственном поэтическом языке. Важно же то, что это не была гражданская поэзия, характерная для 80-х годов. Лирика личных переживаний не привязывалась к внешнему, общему; не было никаких воззваний, аллегорий, свойственных, например, С. Я. Надсону, самому яркому поэту той поры. Герой стихов — он сам, бедный учитель и одновременно босоногий мальчишка, погружённый в труды и мечты.
Вьётся предо мною
Узенький просёлок.
Я бреду с клюкою,
Тяжек путь и долог.
Весь в пыли дорожной,
Я бреду сторонкой,
Слушая тревожно
Колокольчик звонкий.
...
(«Просёлок», 1883)
В качестве своеобразных упражнений множество стихов писалось на бытовые темы: семья, служба в школе; всё это были рассказы в стихах с непоэтическими описаниями и чувствами. Их предельный натурализм (нередки сцены порки розгами, домашних препирательств) способствовал преодолению сентиментализма и риторических штампов ранней поэзии Сологуба.
Почти ничего из тогдашней поэзии крестецкого учителя не печаталось, да и в свои будущие сборники Сологуб крайне редко включал стихи 1883—1886 гг. Такая таинственность дала удивительный результат: когда Сологуб появился «из ниоткуда», многие изумлялись совершенному мастерству стиха: для всех был скрыт его путь как поэта.
В провинции начинающий учитель оказался в культурной изоляции, свыкаться с которой было трудно и неприятно, к тому же окружающая обстановка местной жизни, полная диких нравов, также оставляла гнетущее впечатление.
Учитель в провинции, — писал он в декабре 1883 года в Петербург В. А. Латышеву, — зачастую обречён на умственное и нравственное одиночество. 2-3 товарища — всё его общество, да и оно часто засасывается болотом провинциальной жизни. По своему образованию, по своему развитию, он стоит не высоко. Ему нужна умственная пища, а вокруг себя он встречает людей ещё более незрячих, чем он сам, людей с ограниченным умственным кругозором, с неясными сбивчивыми понятиями о нравственности. И хотя бы честных и энергичных работников встречал он — нет. Это обычная русская засасывающая добродушная масса людей.
Действительно, Крестцы в это время, как писала Чеботаревская, «представляли собою подлинный тип «медвежьего угла», где из каждого дома видно поле, в тёмные вечера ходят по улицам с собственными фонарями, рискуя утонуть в невылазной грязи, а колбасу и консервы лавочники получают один раз в год». Жизнь в таких городах была строго регламентирована: следовало регулярно принимать гостей, наносить ответные визиты, обязательно посещать церковь, собираться на обедах, в клубе и т. д. И это помимо службы в школе, что подразумевало также и обход домов, где жили ученики. Отстраниться от этого уклада жизни было невозможно, а противостоять ему было сложно, и изредка случались срывы.
Пришёл я к Сабурову [ученику] в плохом настроении, — писал сестре Фёдор Кузьмич из Вытегры, — припомнил все его неисправности и наказал его розгами очень крепко, а тётке, у которой он живёт, дал две пощёчины за потворство и строго приказал ей сечь его почаще.
Сам он порицал подобные проявления несдержанности в отношениях между учителем и учеником. И то, что Сологуб внутренне мог относить к себе, он не переносил на других, что бы ни говорили позднее критики о его произведениях, где они видели одни розги и садизм. Более того, в своих позднее написанных многочисленных статьях по вопросам педагогики, Сологуб неоднократно выступал за осуществление истинно гуманистических принципов школы, без наказаний, формы, постоянной слежки и доносительства, без чиновного элемента в работе учителя. «Желательна такая школа, — писал Фёдор Кузьмич в статье «Под спудом», — куда учащиеся могли бы приходить с готовыми своими запросами, а учителя при ней были бы обязаны лишь удовлетворять их запросам. Учителя были бы для пояснения, для помощи, для того, чтобы сказать, что надобно прочесть, как и в каком порядки работать». «И за что бьют — за мелкие шалости, за разбитое стекло, за плохие отметки, — сетовал писатель в статье «Как мальчик». — Бьют только потому, что дети слабы и не могут себя защитить. Запросто, по-домашнему, — как будто у детей нет никаких прав. Но если точно у мальчиков нет прав на телесную неприкосновенность, то эти права следовало бы создать. Ведь, право же, страшно, что участь маленьких Ванек и Васек до такой степени зависит от произвола и, иногда невежественных, родителей. Десятки миллионов малышей, будущих граждан, величина достаточно значительная для того, чтобы находиться под охраною вполне определённого закона!».
То вполне бы мог быть наговор писателя на самого себя (характерный для Сологуба!), крайне редко раскрывавшегося перед собеседником и не любившего прямые вопросы и обобщённые суждения о себе. Хотя в данном случае это, скорее всего, было правдой, так как в письмах к сестре Фёдор Кузьмич был достаточно открыт. «В такой среде жил; учительская среда была, грубая, жёсткая…» — как-то обмолвился он о той поре. К этому добавлялась нервная взвинченность, вызываемая внутрисемейными порядками. Дело в том, что сохранялось прочное господство матери, которая продолжала наказывать Фёдора, кормильца семьи и взрослого человека, розгами. Наказания назначались как бы «за дело»: не выполнил работу по дому, порвал одежду, пришёл поздно... Но такие домостроевские методы воспитания, когда-то, возможно, уместные для шаловливых детей (которыми Тетерниковы и не были), постепенно вошли в систему повседневной жизни Фёдора. Внешне это воспринималось им, как «человеческое смирение» («...Покорно я приемлю муки, // Как принимал их Ты, Христос. // Смиренно претерпев удары, // Я целованьем строгих рук // Благодарю за лютость кары, // За справедливость острых мук»).
Этот тайный кошмар домашней жизни выразился в ряде стихотворений тех лет (одно из них приведено выше, «Господь мои страдания слышит...», 1885). После смерти поэта они были обнаружены в папке под названием «Дневник»: что хотел сказать этим Сологуб неизвестно, так как очевидно, что несмотря на натурализм сцен, часть из них измышлена нарочно.
Любопытные соседки
У себя в саду стоят,
И на окна той беседки,
Где секут меня, глядят.
Я заметил их местечко
У ольхового ствола
В час, как мама от крылечка
Наказать меня вела,
И один из мальчуганов,
Что пришли меня стегать,
Молвил: — Барышни, Степанов,
Захотели много знать.
Я крепился и старался
Не орать и не реветь,
Только всё же разорался, —
Больно так, что не стерпеть.
После порки в сад я вышел,
Раскрасневшийся, как мак,
И насмешки их услышал:
— Разрумянили вас как!
...
На фоне такой, мало располагающей к творчеству и саморазвитию, жизни Фёдор Тетерников много читал,  совершенствовал свои знания иностранных языков, следил за новейшей иностранной литературой. занимался изучением истории античной, европейской и восточной философии, трудился над составлением новаторского учебника геометрии, на службе пытался вдохнуть свет в души своих учеников, — всё это и помогало молодому человеку отстраняться от гнетущей провинциальной рутины. «Главная цель, — писал он Латышеву — приобрести такую степень образованности вообще, какая достижима в моих условиях». Сохранились отзывы самих учеников о Сологубе-педагоге, которые записала его близкая знакомая 20-х гг., В. П. Калицкая, ездившая после смерти писателя в Вытегру и общавшаяся со многими, знавшими Сологуба в те годы. совершенствовал свои знания иностранных языков, следил за новейшей иностранной литературой. занимался изучением истории античной, европейской и восточной философии, трудился над составлением новаторского учебника геометрии, на службе пытался вдохнуть свет в души своих учеников, — всё это и помогало молодому человеку отстраняться от гнетущей провинциальной рутины. «Главная цель, — писал он Латышеву — приобрести такую степень образованности вообще, какая достижима в моих условиях». Сохранились отзывы самих учеников о Сологубе-педагоге, которые записала его близкая знакомая 20-х гг., В. П. Калицкая, ездившая после смерти писателя в Вытегру и общавшаяся со многими, знавшими Сологуба в те годы.
Приходили с сочинениями, — вспоминал в разговоре с нею бывший ученик Вытегорской учительской семинарии, — обсуждали их и насчёт отметок клянчили. Поставит он два с плюсом, а мы кричим: «Мало, Фёдор Кузьмич, мало, прибавить надо». Довольно, скажет довольно. Потом улыбнётся, поставит три и большой минус прибавит… Ещё в шахматы учил играть. «Плохо, скажет, играешь, вот как надо было». В классе-то он нас по фамилии звал и на «вы», а дома просто: «Сенька, Васька, ты»…
— Не бывал ли Фёдор Кузьмич вспыльчив?
— Не-ет, не слыхал. Очень хорошо собой владел; всегда ровный, мягкий, всё с усмешечкой. Разве уж очень рассердят, так покраснеет…
У нас в семинарии был хор, я пел в нём; спевки бывали по вечерам. Как узнают певчие, что Фёдор Кузьмич дежурный в интернате [для учеников при семинарии], так и побегут после спевки к нему, ну и я с ними…
— О чём же говорили?
— А так, не ораторствовал он, а на вопросы отвечал, разъяснения давал или рассказывал…
— Своё рассказывал или из книг?
— Этого уж не могу сказать, не понимали мы тогда — своё или чужое, а только много рассказывал… Очень мы его любили…
 Усердный учитель, добросовестно исполняющий свои обязанности, не пропускающий ни одного урока, да ещё имеющий идеалы относительно педагогики — такой вызывал раздражение у начальства и сослуживцев. Периодически атмосфера службы накалялась. В Крестцах произошёл ещё и скандал — «дело Григорьева». Учитель Григорьев поселился в доме Тетерниковых и соблазнил их прислугу — четырнадцатилетнюю девочку. Григорьева посадили, но дело до суда не дошло: вмешалась «общественность» — крестецкие дамы, которые стали распространять по городу слухи о невиновности Григорьева, при этом очерняя самих Тетерниковых, шантажируя Фёдора Кузьмича и его семью, бывших свидетелями дела. Таким образом, в глазах крестецких обывателей преступник превратился в пострадавшего героя. Григорьев был выпущен на свободу, дело было прекращено. Григорьева уволили, однако это произошло уже по распоряжению из С.-Петербурга. Эта история послужила материалом для «Тяжёлых снов», где Григорьев выведен под именем Молина. (См. публикацию В. В. Абрамова Не просто учитель). Усердный учитель, добросовестно исполняющий свои обязанности, не пропускающий ни одного урока, да ещё имеющий идеалы относительно педагогики — такой вызывал раздражение у начальства и сослуживцев. Периодически атмосфера службы накалялась. В Крестцах произошёл ещё и скандал — «дело Григорьева». Учитель Григорьев поселился в доме Тетерниковых и соблазнил их прислугу — четырнадцатилетнюю девочку. Григорьева посадили, но дело до суда не дошло: вмешалась «общественность» — крестецкие дамы, которые стали распространять по городу слухи о невиновности Григорьева, при этом очерняя самих Тетерниковых, шантажируя Фёдора Кузьмича и его семью, бывших свидетелями дела. Таким образом, в глазах крестецких обывателей преступник превратился в пострадавшего героя. Григорьев был выпущен на свободу, дело было прекращено. Григорьева уволили, однако это произошло уже по распоряжению из С.-Петербурга. Эта история послужила материалом для «Тяжёлых снов», где Григорьев выведен под именем Молина. (См. публикацию В. В. Абрамова Не просто учитель).
После таких событий жить в Крестцах было, конечно, невозможно и противно настолько, что молодой учитель помышлял даже бросить службу:
Мои крестецкие дела складываются как-то весьма нехорошо, — делился переживаниями Фёдор Кузьмич в письме Латышеву. — Я изведал сладость клеветы, озлобленности, тайных подкопов и интриг — вещей, с которыми не умел, да чаще и не хотел бороться: грязно играть, руки марать. — Не знаю, как и выбраться из Крестцов… Я с удовольствием перешёл бы, даже в уездное училище, даже совсем оставил службу…
Так пришлось оставить Крестцы в 1885 году и переехать в Великие Луки. Позже возник конфликт в Вытегре, уже в 1891 году — Фёдор Кузьмич отказывался закрывать глаза на беззаконную растрату казённых денег директором школы.
* * *
Формирование поэтического мастерства Сологуба пришлось на 80-е годы, известные своею летаргией в жизни русского общества и искусства. То было «усталое» время, когда прежние идеалы приглушились, отступили. Литературу тех лет охватила та же апатия, особенно коснулось это беллетристики. Ещё в поэзии были яркие фигуры, выразители той эпохи — Надсон, затем Фофанов, которые в такой относительной пустоте были невероятно популярны. Сологуб был в полной мере «человеком 80-х годов», как им были тот же Надсон, Чехов, Горький, и эта мертвизна сидела в каждом, и в каждый из них выражал её совершенно по-своему. Не сразу, постепенно, в поэзии Сологуба начинают звучать новые ноты, характерные только для Сологуба, как поэта; эти стихотворения обладают индивидуальным, неповторимым стилем, что становится очевидным на рубеже 1880-90-х гг. В этот период лирика Сологуба, уже обогащённая наработанными поэтическими приёмами, всё более явственно определяется душевными переживаниями и настроениями, накопившимися и сложившимися за годы провинциальной жизни: нарастающая усталость, болезненная тоска и бессильные порывы опутывают сологубовские стихи. Поэт неутомим в их анализе и поисках их выражения.
Различными стремленьями
Растерзана душа,
И жизнь с её томленьями
Темна и хороша.
Измученный порывами,
Я словно вижу сон,
Надеждами пугливыми
Взволнован и смущён.
Отравленный тревогою,
Я всё кого-то жду.
Какою же дорогою,
Куда же я пойду?
(19 сентября 1886)
Путь неясен, да и стоит ли куда-то идти... жизнь всё равно «недужная и тщетная», избавиться бы от неё как, отогнать... Так появляются мотивы небытия, предрождения, и — смерти, особенно завладевающие лирической материей Сологуба с начала 1890-х гг.
После жизни недужной и тщетной,
После странных и лживых томлений,
Мы забудемся сном без видений,
Мы потонем во тьме безответной,
И пускай на земле, на печальном просторе
Льются слёзы людские, бушует ненастье:
Не найдёт нас ни бледное, цепкое горе,
Ни шумливо-несносное счастье.
(1893)
Задержка в литературном пути Сологуба была обусловлена совершенной культурной изоляцией, — он чувствовал, что писать в глуши, в общественном и культурном одиночестве больше не мог:
«…Работать стихами и прозою (чем я также занимаюсь) можно только при условии возможно большего общения с людьми и их общественными интересами, — я был поставлен вне такого общения», — писал он Латышеву 17 июня 1890 года. И далее о сокровенном: «Бросить занятия стихами и прозой мне не хочется и не захочется долго, хотя бы я и остался неудачником в этой области, во мне живёт какая-то странная самоуверенность, мне всё кажется, что авось и выйдет что-нибудь дельное, возможно ли это, как это осуществить?»
Ответ на это был: возвращаться в Санкт-Петербург, где было можно вполне реализовать свой талант. Кроме того, в там можно было найти сочувствующих литераторов: именно тогда молодые поэты, провозвестники нового искусства сгруппировались вокруг журнала «Северный вестник», ставшего в те годы пристанищем первых русских символистов: в нём печатались Николай Минский, Зианида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, впоследствии Бальмонт. С целью повидать Минского и Мережковского Фёдор Тереников летом 1891 года съездил в столицу и застал только первого. Минский серьёзно отнёсся к таланту вытегорского поэта и согласился оказать содействие. Но перевестись в столицу Тетерникову долго не удавалось; лишь осенью 1892 года Фёдор Кузьмич смог, по протекции Латышева, переехать на постоянное жительство в Петербург: Вытегорскую семинарию и так предполагали закрыть, да ещё обострились разногласия с начальством. Тетерников числился в штате семинарии до полного официального её закрытия, которое последовало в 1893 году. В Петербурге Сологуб был определён учителем Рождественского городского училища на Песках.
Десять лет в провинции, безусловно, наложили глубокий отпечаток на творчество и мировосприятие Сологуба, они скорее даже укрепили и развили некоторые черты характера писателя.  Внешнее — жизнь уездных городков, сущность северной природы он изучил хорошо. Многие сцены «Тяжёлых снов» и «Мелкого беса» были списаны прямо с натуры в Крестцах, Великих Луках и Вытегре, и то, как говорил позже Сологуб, он значительно смягчил краски в «Мелком бесе», были факты, которым никто всё равно бы не поверил, если бы их описать. И следствием того, место действия всех его романов и большинства рассказов явились губернские города. Он, коренной петербуржец, хорошо знавший и любивший столицу, проживший почти всю свою жизнь в ней, крайне редко помещал героев своих рассказов в этот город, почти никогда не описывал его, и в лирике собственно Петербург появлялся также мало и изображался краткими скупыми строками. Внутреннее — корни его творческого дарования в эти годы окрепли — одиночество, безысходность, «смертельные томления» — то, что затем стало отождествляться с «декадансом». Внешнее — жизнь уездных городков, сущность северной природы он изучил хорошо. Многие сцены «Тяжёлых снов» и «Мелкого беса» были списаны прямо с натуры в Крестцах, Великих Луках и Вытегре, и то, как говорил позже Сологуб, он значительно смягчил краски в «Мелком бесе», были факты, которым никто всё равно бы не поверил, если бы их описать. И следствием того, место действия всех его романов и большинства рассказов явились губернские города. Он, коренной петербуржец, хорошо знавший и любивший столицу, проживший почти всю свою жизнь в ней, крайне редко помещал героев своих рассказов в этот город, почти никогда не описывал его, и в лирике собственно Петербург появлялся также мало и изображался краткими скупыми строками. Внутреннее — корни его творческого дарования в эти годы окрепли — одиночество, безысходность, «смертельные томления» — то, что затем стало отождествляться с «декадансом».

III
«СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК»
Вхождение в литературную среду Петербурга
(1892—1895)
 УРНАЛ «СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК» сыграл особую роль в биографии Сологуба. Именно в нём он стал широко публиковаться в 1890-е годы: помимо стихотворений, были напечатаны первые рассказы, роман, переводы из Верлена, рецензии. И собственно сам «Фёдор Сологуб» — псевдоним — был придуман в редакции журнала. Если до «Северного вестника» он был учителем, пишущим и присылающим стихи, то после сотрудничества с журналом, был только поэт и беллетрист Сологуб, «где-то служащий учителем». УРНАЛ «СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК» сыграл особую роль в биографии Сологуба. Именно в нём он стал широко публиковаться в 1890-е годы: помимо стихотворений, были напечатаны первые рассказы, роман, переводы из Верлена, рецензии. И собственно сам «Фёдор Сологуб» — псевдоним — был придуман в редакции журнала. Если до «Северного вестника» он был учителем, пишущим и присылающим стихи, то после сотрудничества с журналом, был только поэт и беллетрист Сологуб, «где-то служащий учителем».
Ко времени своего переезда в Санкт-Петербург в сентябре 1892 года Фёдор Кузьмич уже был знаком с некоторыми людьми нового искусства, прежде всего, с Н. Минским, одним из первых русских декадентов. Тот в начале года передал его стихи редактору «Северного вестника», А. Л. Волынскому. «Помню отчётливо, — писал позже Волынский, — что я очень быстро загорелся. Стихи поразили своею ясною простотою, какою-то неуловимою прозрачностью в тончайшем поэтическом повороте мысли. Самая мысль была всегда неожиданна, и простота выражений придавала ей своеобразную прелесть. И во всём — сухой ритм чеканных строф и белая облачная пелена нежнейших настроений, обволакивающая все мотивы… Мы тут же вместе решили дать стихам начинающего поэта ход на страницах журнала». (Стихотворение «Вечер» было напечатано в февральском номере «Северного вестника» за 1892 год)
По настоянию Минского, которому родная фамилия Фёдора Тетерникова показалась непоэтическою, решено было дать ему псевдоним (хотя, как можно заметить по предыдущим публикациям, поэт и сам постоянно избегал употребления своего настоящего имени). Волынский предложил: «Соллогуб», — фамилию, в то время вызывавшую ассоциацию с известным аристократическим родом, к которому принадлежал граф Владимир Соллогуб, беллитрист середины XIX века; для отличия в псевдониме убрали одну букву «л» (и то на протяжении последующей жизни Сологуба в печати были неискоренимы ошибки написания). Минский с Волынским и сами жили под масками псевдонимов, образованных от названий губерний, где они родились.
Псевдоним мой чистая случайность… Не знаю уж почему остановились на «Сологубе», — несколько лукавя, говорил позже в интервью Фёдор Кузьмич. — Иногда «Бюро вырезок» присылает мне по недоразумению заметки о старом графе Соллогубе. Я был равнодушен ко всему этому, — ведь, вообще, человек не сам выбирает себе имя, — и меня окрестили Фёдором, не спрашивая моего согласия.
Один раз в жизни моей я почувствовал большое преимущество пользования псевдонимом. Это случилось в мятежные для России годы [1905—1907]. Состоя на казённой службе, я мог не чувствовать неудобств положения писателя в эти годы. Я и свободно печатал, что хотел, не вызывая выговоров начальства, и подписывая имя своё под некоторыми резолюциями, которые были тогда в таком ходу. Начальство, конечно, знало, что я пишу, что Сологуб мой псевдоним, но формально моё имя здесь не участвовало, и оно не вчиняло никаких дел обо мне.
В печати псевдоним впервые появился в 1893 году в апрельском номере журнала «Северный вестник» (им подписано стихотворение «Творчество»). В течение полутора лет, он то употреблялся, то нет, пока окончательно не утвердился. Первый опубликованный рассказ «Ниночкина ошибка» (1894) был напечатан за подписью «Фёдор Моховиков». Без указания авторства в 1895—1897 гг. в «Северном вестнике» печаталось множество рецензий на книги, в основном, по педагогике.
Со второй половины 90-х расширялись и личные контакты писателя, постепенно входившего в литературные круги Петербурга. Сологуб часто бывал у Мережковских, у которых уже собирались в ту пору известные литераторы и адвокаты, постоянными гостями были К. Бальмонт, А. Чехов, позже В. Розанов; посещал «среды» кружка «Мира искусства», «пятницы» К. Случевского, наконец, у самого Сологуба по воскресеньям стали проходить поэтические встречи, среди непременных участников которых были первые русские декаденты, Вл. Гиппиус, А. Добролюбов и И. Коневской. Сологуба захватывает общее в его среде увлечение философией Шопенгауэра, происходит знакомство с новейшей европейской литературой — Ш. Бодлер, О. Уайльд, М. Метерлинк, С. Малларме, Ж.-К. Гюйсманс, Ф. Ницше и др.
Одну из таких встреч (у Мережковских) вспоминает Александр Бенуа:
Среди них меня особенно заинтересовал молодой поэт Владимир Гиппиус и мрачнейшего вида человек, не покидавший за весь вечер своего стула в углу у окна и упорно молчавший с крайне неодобрительным видом до тех пор, пока, обидевшись на что-то, он не разразился какой-то отповедью в несколько истерических тонах. То был поэт Фёдор Сологуб, о котором я до того не имел никакого понятия, но стихи которого мне необычайно понравились и даже взволновали, когда он тут же прочёл ряд их — без того, чтобы о том особенно просили, — точно воспользовавшись случаем высказаться. Прочёл он их глухим, «загробным» голосом, отрывисто выбрасывая слова. Стихи были мрачнейшие, но необычайно красивые и убедительные.
Дополняет образ писателя той поры Зинаида Гиппиус, воспроизвёдшая в своих мемуарах своё первое знакомство:
Это было в летний, или весенний, солнечный день. В комнате Минского, на кресле у овального, с обычной бархатной скатертью, стола сидел весь светлый, бледно-рыжеватый, человек. Прямая, не вьющаяся, борода, такие же бледные, падающие усы, со лба лысина, pince-nez на чёрном шнурочке.
В лице, в глазах с тяжёлыми веками, во всей мешковатой фигуре — спокойствие до неподвижности. Человек, который никогда, ни при каких условиях, не мог бы «суетиться». Молчание к нему удивительно шло. Когда он говорил — это было несколько внятных слов, сказанных голосом очень ровным, почти монотонным, без тени торопливости. Его речь — такая же спокойная непроницаемость, как и молчание.
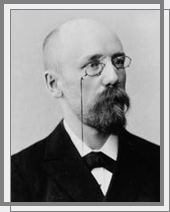 Это описание внешности Сологуба и его манеры держаться совпадает со всеми известными воспоминаниями тех, кто знал Фёдора Кузьмича в разные годы. Другие отмечали нелюдимость, холодность обращения, равнодушие, — «маску», за которой редко и трудно было увидеть подлинное лицо. Возраст Сологуба также был всегда примечателен: рано поредевшие волосы, бородка конца XIX века — всё это делало его много старше, особенно в восприятии поэтов следующего поколения, — младших символистов, — для которых он был «вне времени» (отнюдь не вкладывая в это определение негативный смысл). Таким он и остался в памяти многих: «непроницаемо-спокойный, скупой на слова, подчас зло, без улыбки, остроумный. Всегда немножко волшебник и колдун» (слова Гиппиус). Это описание внешности Сологуба и его манеры держаться совпадает со всеми известными воспоминаниями тех, кто знал Фёдора Кузьмича в разные годы. Другие отмечали нелюдимость, холодность обращения, равнодушие, — «маску», за которой редко и трудно было увидеть подлинное лицо. Возраст Сологуба также был всегда примечателен: рано поредевшие волосы, бородка конца XIX века — всё это делало его много старше, особенно в восприятии поэтов следующего поколения, — младших символистов, — для которых он был «вне времени» (отнюдь не вкладывая в это определение негативный смысл). Таким он и остался в памяти многих: «непроницаемо-спокойный, скупой на слова, подчас зло, без улыбки, остроумный. Всегда немножко волшебник и колдун» (слова Гиппиус).

IV
ПЕРВЫЕ КНИГИ
«Тяжёлые сны» — I и II книги стихов — Творческий процесс
(1895—1896)
 1896 ГОДУ ВЫХОДЯТ ПЕРВЫЕ три книги Фёдора Сологуба: «Стихи, книга первая», роман «Тяжёлые сны» и «Тени» — объединённый сборник рассказов и второй книги стихов. Все три книги Сологуб издал сам небольшим, впрочем, обычным по тем временам, тиражом; также самому пришлось заниматься их распространением, в чём ему помогала советами Л. Я. Гуревич, издатель «Северного вестника». 1896 ГОДУ ВЫХОДЯТ ПЕРВЫЕ три книги Фёдора Сологуба: «Стихи, книга первая», роман «Тяжёлые сны» и «Тени» — объединённый сборник рассказов и второй книги стихов. Все три книги Сологуб издал сам небольшим, впрочем, обычным по тем временам, тиражом; также самому пришлось заниматься их распространением, в чём ему помогала советами Л. Я. Гуревич, издатель «Северного вестника».
Первая книга стихов вышла в конце декабря 1895 года. Большинство стихотворений, помещённых в ней, были написаны в 1892-1895 гг. (самое раннее в 1887), — в годы, когда окончательно определились и укрепились индивидуальный поэтический язык и основные лирические настроения.
Бледна и сурова,
Столица под туманною мглой,
Как моря седого
Прибой.
Из тьмы вырастая,
Мелькает и вновь уничтожиться в ней
Торопится стая
Теней.
Образы и структура стихов принадлежали уже к другому периоду русской литературы — эпохе модернизма, при этом их внешняя предельная простота, без изощрённых метафор и описаний, существенно выделяли Сологуба и среди поэтов его направления. Лишённая «декадентской» вычурности, его поэзия вскоре оказалась даже вполне пристойной для традиционных журналов. Фёдор Кузьмич рассказывал, что литераторы «недекадентского» лагеря печатали его стихи в своих органах довольно охотно, признавая его своим и думая, что он нарочно глумится над декадентами, когда водит с ними кампанию и пишет «под них» (по воспоминаниям В. Пяста).
Первая книга стихов это чистая лирика: переживания природы в её ясной и тихой красоте, в которою порою проникает авторская горечь и тоска. Не природа как таковая интересна Сологубу-поэту, — его волнует связанное с нею таинство претворения мечты в творение. Но отчего ясные и мягкие пейзажи Сологуба и его грёзы вдруг темнеют, уступая место тоскливым, «больным томлениям»?
Лампа моя равнодушно мне светит,
Брошено скучное дело,
Песня ещё не созрела, —
Что же тревоге сердечной ответит?
Белая штора висит без движенья.
Чьи-то шаги за стеною…
Это больные томленья —
Перед бедою!
Ещё:
Мы устали преследовать цели,
На работу затрачивать силы, —
Мы созрели
Для могилы.
Отдадимся могиле без спора,
Как малютки своей колыбели, —
Мы истлеем в ней скоро,
И без цели.
Ответ, возможно, кроется в первом стихотворении сборника — «Амфора», в котором Сологуб определяет исток своих поэтических настроений:
…
Так я несу моих страданий
Давно наполненный фиал.
В нём лютый яд воспоминаний,
Таясь коварно, задремал.
Иду окольными путями
С сосудом зла, чтоб кто-нибудь
Неосторожными руками
Его не пролил мне на грудь.
Вся книга является вроде этой амфоры, которая время от времени проливается, и окрашивает горечью и отчаяньем всё то, что мило поэту, что с любовью принимается им, пока «лютый яд» дремлет:
Сокрытая красота
Где грустят леса дремливые,
Изнурённые морозами,
Есть долины молчаливые,
Зачарованные грозами.
Как чужда непосвящённому,
В сны мирские погружённому,
Их краса необычайная,
Неслучайная и тайная!
Смотрят ивы суковатые
На пустынный берег илистый.
Вот кувшинки, сонм объятые,
Над рекой немой, извилистой.
Вот берёзки захирелые
Над болотною равниною.
Там вдали, стеной несмелою
Бор с раздумьем и кручиною.
Как чужда непосвящённому,
В сны мирские погружённому
Их краса необычайная,
Неслучайная и тайная!
Но далее:
Я ждал, что вспыхнет впереди
Заря, и жизнь свой лик покажет
И нежно скажет:
«Иди!»
Без жизни отжил я, и жду,
Что смерть свой бледный лик покажет
И грозно скажет:
«Иду!»
Всё же Сологубу дороги свои переживания, пусть даже, это «мрачные сны», ведь всё претворяется через мечту:
Я жизни свободной не знаю,
В душе моей — мрачные сны,
Я трепетно их укрываю
Под нежною тканью весны.
(«Огнём»)
В книгу был включён также замечательный перевод из Поля Верлена, — один из многих, опубликованных в журналах (позже Сологуб составит свою седьмую книгу стихов исключительно из переводов Верлена). Выход книги совпал со смертью французского декадента.
Параллельно и в созвучии со стихами, Сологуб писал роман «Тяжёлые сны», начатый в Крестцах в 1883 году, в котором отразились жизнь и быт Крестцов, а также автобиографические элементы, связанные со службой в школе, но, прежде всего, в романе выведен усталый «потерявший старые законы жизни, развинченный и очень порочный» человек (так его характеризует Сологуб в письме к Л. Я. Гуревич). Учитель Логин — мечтатель, брошенный в тину маленького провинциального городка. Он больше думает, чем действует, окружающий мир проступает сквозь туман тяжёлых снов, лишь тоска наполняет его тёмными и жуткими грёзами, которые он не в силах ни победить, ни отогнать (схожий образ героя дан и в написанной тогда же повести в стихах «Кремлев» — томимый и подавляющий сам себя человек).
…Когда-то он влагал в своё учительское дело живую душу, но ему скоро сказали, что он поступает нехорошо; он задел неосторожно чьи-то самолюбия, больные от застоя и безделья, столкнулся с чьими-то окостенелыми мыслями, — и оказался или показался человеком беспокойным, неуживчивым… Его перевели в наш город… И вот он целый год томится здесь тоскою и скукою…
Так начинается биография главного героя в романе. Крепкий реализм «Тяжёлых снов», рисующий бытовые картины провинции, мелких и крупных негодяев, распоряжающихся жизнью городка, сочетается с призрачной, одурманивающей атмосферой полуснов, полуяви, наполненными эротическими грёзами и приступами страха. Подобные форма и содержание романа были совершенно чужды русской беллетристике 80-х годов, всецело прозябавшей в бытовом реализме. Сологуб же впервые воплотил в этом романе своё собственное художественное видение: в реалистически написанном романе он, не стесняясь, вводит фантастическое, гротескное. В границах реализма Сологуб «остаётся только до тех пор, — писал позже один из критиков, — покуда они ему не мешают. А как только ему надо, он спокойно выходит из них, как спокойно и снова возвращается в них». Так перекидывается мостик к Гоголю и немецким романтикам начала XIX века... впрочем, отравленные тоской и безысходностью герои Сологуба не имели в своей природе предшественников.
Мы слишком рано узнали тайну — и несчастны. Мы гнались за призраками. Мы живём не так, как надо, — мы растеряли старые рецепты жизни и не нашли новых.
Так говорит Логин. В этом романе чувствуется столько личного, сколько ни в одном из позднейших произведений Сологуба. Об этом сам писатель открыто никогда не говорил, лишь однажды, уже в 20-е годы, в разговоре с В. П. Калицкой Фёдор Кузьмич обронил:
«— Знаете вы, что критика видела в Логине из «Тяжёлых снов» меня?
— Нет, не знала.
— Да. Впрочем, так оно и есть».
В воспоминаниях сослуживца по Вытегорской семинарии учителя И. И. Кикина сохранился тогдашний облик писателя и его настроения, с точностью отразившиеся в главном герое:
Возвращаясь из семинарии по домам, мы подолгу гуляли с Фёдором Кузьмичом по Воскресенской улице. Беседовали. Фёдор Кузьмич говорил много, вдохновлялся, мечтал. Мечты туманные были, сложные, ну вроде того: как претворять звуки в цвета…
Роман писался долго и был окончен только в Петербурге в 1894 году. Через год его с трудом, после придирок цензуры и редакции, удалось напечатать в «Северном вестнике». «Эротические», по мнению редакции, места были приглажены, а другие (история о попе Андрее) были совершенно выкинуты (правда, они не появились и в отдельных изданиях). Это вызывало естественные обиды молодого писателя. «…Я к моему писательскому делу отношусь строго, как могу, — пишет он в ноябре 1895 года издательнице журнала, — и, при всей моей денежной необеспеченности, пишу не для денег. Хорош или плох роман, это уже от размера моих способностей зависит, но работал я над ним не как наёмник, а потому и подчинение моё чужим мнениям не может быть беспредельным».
Вероятно, это вынудило Сологуба пойти на самостоятельное издание романа, в котором была восстановлена авторская воля. Книга вышла марте 1896 года.
В сущности, это первый русский декадентский роман, и реакция критики была вполне закономерной: к «декадентам» относились свысока, с насмешкой, и критики не давали себе труда отличать истинное от поддельного: декадент и всё. Большинство рецензий на роман были выдержаны с традиционной гражданской позиции; «Тяжёлые сны» были названы «курьёзным литературным происшествием, простой беспочвенной выдумкой», обозреватель «Русской мысли» оценивал роман, как «декадентский бред, перепутанный с грубым, преувеличенным и пессимистическим натурализмом», кто-то усмотрел в нём безнравственное подражание плохим немецким и французским романам. Лишь критик «Русской беседы» отметил роман и его автора: «Тяжёлые сны» названы «самым, быть может, в эстетико-художественном отношении выдающимся явлением литературы минувшего года», а сам автор — «самым своеобразным из начинающих беллетристов».
Должного восприятия роман дожидался много лет. Лишь по выходе второго (1906) и третьего (1909) изданий, стало возможным оценить роман собственно, как литературное произведение, правда, к тому времени роман уже прочно ассоциировался с последующим — «Мелким бесом», работа над которым для Сологуба сейчас только начиналась.
Почти одновременно «Тяжёлые сны» вышли в немецком переводе в Австро-Венгрии, в 1897 году, что, конечно, польстило писателю, фактически неизвестному ещё в самой России. Переводчики Александр и Клара Браунеры писали Сологубу, что им там интересуются, и что сами они под большим впечатлением от его произведений. Помимо «Тяжёлых снов» Браунеры перевели сборник рассказов «Тени» (1900), а 10 сентября 1898 года венская газета Die Zeit опубликовала статью Сологуба «Мир Льва Толстого. К 70-летию со дня рождения» (Die Welt Leo Tolstojs. Feier seines siebzigsten Geburstag) в переводе Клары Браунер. Сологуб одним из первых представил единый путь Толстого, неразрывно соединяющий его художественные произведения и философские искания (в 1910 году эта статья вышла на русском языке под названием «Единый путь Льва Толстого», приуроченная к его смерти). Произведения Сологуба выходили на немецком языке регулярно: при жизни писателя были переведены четыре романа, сборник рассказов, сказочки. Фёдор Кузьмич всегда отмечал, что в Германии его понимают и принимают лучше, чем в России.
Весь 1896 год Сологуб готовил свой первый сборник рассказов и вторую книгу стихов. Они вышли под одной обложкой в октябре. Книга получила название по одному из трёх помещённых в ней рассказов — «Тени».
Рассказы были о детях, с печальными развязками. Окружающие взрослые не понимают этих детей, они мертвы, живы только дети с их мечтами (но страшно то, что эти мечты уводят к смерти или безумию, не находя своего воплощения). Вся ранняя проза Сологуба проникнута этим безумием, безвыходностью положений своих героев с самого начала, неумолимостью страшного конца. Так, герои «Теней», мама и сын, постепенно зачаровываются игрою в тени, и тени уж не отпускают их. В «Червяке» мнимый червь истощает девочку Ванду до смерти. В сюжетах сказывалось одержимость с юношеских лет самого Сологуба к смерти.
Серёжа подошёл к отцу. Отец притворился строгим и сердитым, но Серёжа знал, что ему всё равно, что он — чужой.
— Что, сорванец, опять напроказничал? — спросил отец.
Серёжа нахмурился и сообразил, что можно и не отвечать. Отец подумал и не нашёл сердитых слов. Это его рассердило и он досадливо засмеялся.
Так описана сцена прошения прощения у отца нашалившего мальчика в рассказе «К звёздам». Такой стилистики и темы русская литература не знала. А применительно вообще к литературе о детях (и это ведь отнюдь не детская литература), то маленькие «злые» и «недобрые» герои Сологуба сбивали с толку критику, которая не знала, как это всё определить. Легче было списать на «декадентство» — так, бред.
Вторая книга стихов, следующая за рассказами, близка первой книге стихов: грёзы поэта, против воли прерываемые мрачным и смертельным настроением, теперь обретают более объективную форму («После жизни недужной и тщетной...», «Для чего этой тленною жизнью болеть...», «Кто мне дал это тело…» и др.). Из новейших стихов в книгу было включено, например, такое удивительное стихотворение:
Расцветайте, расцветающие,
Увядайте, увядающие,
Догорай, объятое огнём, —
Мы спокойны, не желающие,
Лучших дней не ожидающие,
Жизнь и смерть равно встречающие
С отуманенным лицом.
* * *
Что касается методов творчества, то поэты распространяться на этот предмет вообще не любят, и Фёдор Сологуб — не только не был исключением, но даже как-то идейно был враждебен попыткам узнать о его работе над произведениями. И тем не менее, Сологуб, редко с кем пускающийся в откровения, тем более о такой мистической материи как творческий процесс, однажды приокрыл особенности своего писания в разговоре с поэтом Валентином Кривичем (сыном И. Анненского), состоявшимся 29 июня 1925 года. Кривич, сразу понявший, какую важность представляли высказывания Сологуба, в тот же день записал всё, что оставалось свежо в памяти:
Сейчас вернулся от Сологуба и весь нахожусь под впечатлением услышанного от него. […]
«— Для меня лично бывает часто достаточно, чтобы температура крови повысилась на 2–3 градуса... — медленно, словно вспоминая, говорил Сологуб, постукивая тонкими, нервными пальцами по жёлтой коробке своей неизменной «Невы».[…]
— Для многого — надо просто сильно сосредоточиться... — продолжал Фёдор Кузьмич после довольно продолжительной паузы. — Уйти из времени...
Снова продолжительная пауза и тихое постукивание по папиросной коробке.
— Такой уход из времени у меня бывает часто. Первый раз я ощутил его, будучи 8-милетним мальчиком... Я бежал куда-то через Николаевский мост... и вдруг почувствовал, что мысли у меня как-то слишком быстро несутся вперёд... мысли и образы... один за другим... Меня это удивило и раздражило. Я стал стараться задерживать их и осознавать... Делать так, чтобы каждая такая мысль дала мне возможность в неё всмотреться. И вот тут впервые я как бы вышел из времени...
Я. — А связывались ли такие ощущения с процессом творчества?
Сол. — Здесь тоже... Вы чувствуете иногда, что вот вдруг — в голове словно бы звякнул какой-то звоночек... И вот — вы отделились от настоящего, от времени.... Вот тут (он провёл ребром руки поперёк стола) — действительность, а тут — уже другое: то, что внутри вас... И вы рассказываете именно то, что внутри вас... и поэтому часто не можете сказать иначе, как говорите. Ведь это же только и именно то, что было... Что же тут можно сделать? В одном из моих рассказов говорится о том, как Христос превращал воду в вино... И я пишу, что две женщины смотрели на это, как курсистки на научный эксперимент... За это сравнение я принял много порицаний, даже брани... Но — ведь иначе сказать я не мог.
Я. — Вы никогда не записывали чего-нибудь подобного тому, что сейчас мне рассказываете? […]
Сол. — Нет. Я вообще боюсь углубляться в самоанализ. Этого не надо... Всё равно, как я не люблю пристально всматриваться в людей, и никогда, или — точнее — почти никогда не выводил в моих вещах живых, существующих людей... Эти люди тоже там, внутри меня. А потом, вообще... первое впечатление, первый взгляд — вот человек! А дальше — нет!.. Это глупости, что с человеком надо пуд соли съесть, чтоб его узнать! Вот тут-то именно он тебя и обманет...
[…]
Постепенно разговор перешёл к самому процессу творчества Сологуба.
Сол. — Здесь сначала — как зерно... Вот из зерна вышла берёза, цветок и т. п., но вначале именно было зерно, и из него, из зерна, выросло... Не взята глыба, из которой, отбивая куски, вытачивают вещь, а выращивается зерно...
[…]
— …И часто, — продолжал он спокойно, укладывая руки параллельно на ручки кресла и устремляя взгляд на карниз стены перед собой, — и часто самые, казалось бы, неподходящие вещи дают этому зерну нужные соки... Часто во время работы я читаю самые случайные книги... и вдруг — там, в какой-нибудь астрономии, в чужом рассказе, в газетной статье — какая-то капля сока для моего зерна...
Я. — Таким образом — вы должны мало вычёркивать?
Сол. — Почти ничего. Больше прибавляю. Откуда же взяться тому, что можно сократить? Набросан скелет, — всё на одной странице... И вот — слово разрастается в строку, строка — в страницу... Кости обрастают мускулами, кожей... вот, даже — волоски на коже... Разумеется, выбираешь, что писать, ведь всего не напишешь! Ну, — при этих условиях что же можно вычеркнуть? Отрезать кусок кожи? мяса? Прибавить — да: это иное дело... это бывает надо то в одном месте, то в другом...
Он замолчал, словно бы не окончив фразы, причём по интонации его последних слов и по некоторым движениям мне стало ясно, что говорить больше на эти темы он не будет.
— Скажите, Фёдор Кузьмич, — рискнул я всё-таки предложить заключительный вопрос: — вот такого рода «уход из времени» бывает у вас только при работе над прозаическими вещами или и при стихотворчестве тоже?
— Нет, отчего же только при прозе?.. — проговорил Сологуб уже как бы с оттенком недовольства в голосе. — И в стихах... Только тут, разумеется, выбор труднее и техника труднее, — потому что больше законов ремесла...»
Сам Сологуб относился благоговейно к своему творчеству, — да и как иначе: свой труд, свои темы, свой мир, не похожий ни на кого. Позже К. Чуковский, даже не зная хорошо лично Сологуба, пришёл такому же умозаключению, лишь отталкиваясь от лирики Сологуба. «Он не пишет «эффектных стихов — “просто так” — оттого, что влюбился, или оттого, что сегодня красиво пылала заря, — как пишет множество порою великих поэтов. Он из тех писателей — полуфанатиков, полупророков, которые знают только Бога, только свою душу, только вечность, и только смерть, – чьё творчество, малы они или велики, гениальны или только смешны, — всегда религиозно; пишут ли они о женщине или о солнце, о червяке или о сладострастии — всё это для них озарено их религией». Но не только в лирике открывалась такое отношение к себе поэта. Критиков как-то повергло в шок заявление Сологуба о самом себе во вступлении к пьесе «Победа смерти»: «Разве стихи его не прекрасны? Разве проза его не благоуханна? Разве не обладает он чарами послушного ему слова?» И в этом не было никакой саморекламы, дутой похвальбы себе... вызов — возможно (Сологуб любил намеренно ставить собеседника в тупик). «Впрочем, он и не скрывал того, что знал себе цену и чти цену эту он считал — по заслугам — высокой, — вспоминал Кривич.
— А когда я захочу прочесть хорошие стихи, — сказал он однажды в Царском Селе с эстрады, открывая вступительным словом вечер писателей, в котором и сам — в качестве автора — участвовал, — я обыкновенно беру с полки одну из своих книг, так как я знаю, что встречу там именно хорошие стихи.
И сказано было это самым обыкновенным “сологубовским” тоном: спокойно и слегка высокомерно. Он ничего не утверждал, не бросал никакого вызова, он просто доводил об этом до сведения аудитории...
Между прочим: кому другому удалось бы произнести такую фразу “безнаказанно”? В самом благополучном случае она вызвала бы смех. Но в устах Сологуба подобное заявление казалось совершенно естественным: высказывание такого рода правды находилось в гармоническом и полном соответствии со всем обликом писателя».
При таком отношении к своему творчеству может показаться странным, что писатель не только признавал возможным заимствовать сюжеты своих произведений (как прозы, так и стихов) из чужих сочинений, но и даже выводил что-то вроде общеписательской системы: «Вся наша литература — сплошной плагиат. А если бы это было и не так, у нас не было бы великих поэтов, точно так же как не было бы ни Шекспира, ни Гёте, которые, как известно, — всегда работали на чужих материалах...» (запись Вл. Смиренского, 1925). Конечно, так высказываться Сологуб позволял себе лишь избранному кругу собеседников. Но дотошные литературоведы и сами обнаружили некие «заимствования». Это вызвало волну обвинений в плагиате. «Эти обвинения совершенно несправедливы, — писал Сологуб в марте 1910 года редактору «Биржевых ведомостей», — если я у кого-нибудь что и заимствую, то лишь по правилу «беру своё везде, где нахожу его». Если бы я только тем и занимался, что переписывал бы из чужих книг, то и тогда мне не удалось бы стать плагиатором, и на всё я накладывал бы печать своей достаточно ясно выраженной литературной личности. Там, где хотят видеть меня хотя бы в качестве случайного и редкого гостя, не должны относиться ко мне, как карманному вору».

V
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Декадент или символист? — «Пятницы» Случевского — III и IV книги стихов
(1897—1902)
 АПРЕЛЕ 1897 ГОДА МЕЖДУ редакцией «Северного вестника» и Сологубом произошёл раскол. Отношения и прежде были нелёгкими, но в последние годы разногласия взглядов редакции и поэта обострились. В декабре 1896 года Волынский написал резкую статью о новом искусстве, в которой клеймил «декадентов» и приветствовал «символистов»; в «декадентах» числился Сологуб. Теперь его критика и стойкое неприятие рассказа «На камни» (он же «Утешение») вынудили Фёдора Кузьмича отказаться от дальнейшего сотрудничества с журналом. Надо сказать, что эстетические блуждания Волынского (зачастую непоследовательного в своих оценках) обратили против него не только Сологуба: в это же время из журнала ушли Минский и Мережковские (автора «Юлиана-Отступника» возмущала бесцеремонность редактирования Волынского). АПРЕЛЕ 1897 ГОДА МЕЖДУ редакцией «Северного вестника» и Сологубом произошёл раскол. Отношения и прежде были нелёгкими, но в последние годы разногласия взглядов редакции и поэта обострились. В декабре 1896 года Волынский написал резкую статью о новом искусстве, в которой клеймил «декадентов» и приветствовал «символистов»; в «декадентах» числился Сологуб. Теперь его критика и стойкое неприятие рассказа «На камни» (он же «Утешение») вынудили Фёдора Кузьмича отказаться от дальнейшего сотрудничества с журналом. Надо сказать, что эстетические блуждания Волынского (зачастую непоследовательного в своих оценках) обратили против него не только Сологуба: в это же время из журнала ушли Минский и Мережковские (автора «Юлиана-Отступника» возмущала бесцеремонность редактирования Волынского).
Итак, Фёдора Сологуба печатно обозвали «декадентом», причём в самом отрицательном смысле. И что же Сологуб? Оказывается, поэт нисколько не собирался обижаться, а более того, — сразу же засел за написание статьи «Не постыдно ли быть декадентом?», в которой постарался представить своё видение терминов «декадентсво» и «символизм». Любопытно, что в самой Франции, родине этих направлений, не было никаких резких разграничений и тем более эстетической конфронтации в связи с декадентством и символизмом. Манифест символизма Жореса 1886 года наоборот принял тех, кого именовали декадентами — Бодлера, Верлена, Малларме В России же эти термины стали противостоставлять: грубо говоря, в символизме видели идеалы, духовность, а в декадентстве – безволие, безнравственность, короче, «упадок» (к этому тогда добавилось и определение Макса Нордау — «больные выродки»). С таким набором ярлыков пришлось работать Сологубу в своей статье.
Прежде всего, Сологуб сразу настраивает читателя на серьёзность такого литературного явления как декадентство и устанавливает прочную естественную связь символизма и декадентства. И далее вскрывает причины их возникновения:
...Настроения, сопровождавшиеся более или менее отчётливым пониманием причин […] глубокой неудовлетворённости жизнью, конечно, знакомы бывали и некоторым из древних; но не этим настроениям принадлежало господство в художественной литературе европейских народов. Возникая из великой тоски, начинаясь на краю трагических бездн, символизм, на первых своих ступенях, не может не сопровождаться великим страданием, великой болезнью духа. И так как всякое страдание, непонятное толпе, презирается и осмеивается ею, то и это страдание получило презрительную кличку декадентства. Но иначе, как страданием и болезнью, нельзя сделать никаких завоеваний в области наших восприятий. Когда слепой прозреет, то больно и страшно ему видеть, и только потом становится радостно смотреть, и уже потом, наконец, овладевает он тою способностью, которая возникла у него так мучительно. Если бы наше зрение стало чувствительно к большему или меньшему, чем раньше числу колебаний эфира, то и нам было бы страшно и больно, и люди здоровые, с нормальным зрением, издевались бы над безумцами, вдруг увидевшими какие-то ультрафиолетовые тоны.
Обвиняющие декадентов словно забывали, что это прежде всего литературное направление, а в литературе главное это слово, воздействие слова, иначе бы не было бы беллетристики и поэзии, а были бы сплошные репортажи. Сологуб в декадентстве видел прежде всего работу над словом, над обновлением языка, дабы вернуть художественную силу в описании чувств и настроений, рождаемых ускорением и насыщенностью явлений современной жизни:
Декаденты пользуются словами и сочетаниями их не как зеркалами для повторения предметного мира, а только как орудием для возбуждения в читателе некоторого внутреннего процесса. Оставлена тщетная забота дать в произведениях искусства совершенные образцы красоты, — искусству возвращена его первоначальная задача очарования и восторга.
[...]
Таким образом, как и всякое свежее литературное движение, так называемое декадентство вызывает, прежде всего, заботу об очищении и улучшении речи, об её точности и силе. Но здоровые люди привыкли к словесным шаблонам и неточностям, и неожиданно точная речь кажется им непонятною уже по одной своей неожиданности. Впрочем, декадентская поэзия и не обращается к людям, которые считают себя здоровыми, потому что мало восприимчивы.
И именно Сологуб был одним из первых, кто занялся стилем, — тем, что в русской литературе к тому времени не считалось каким-либо достоинством (даже к уникальному Лескову относились тогда с большим невниманием). Андрей Белый, сам деятельный работник слова, рецензируя вторую книгу рассказов писал: «Фёдор Сологуб — один из первых стилистов нашего времени. Его яркий, отточенный, жалящий слог, сочетающий простоту и изысканность, холод и огонь, нежность и суровость, всё становится гибче...». За словом идут образы, мысли — то, во что можно вложить уже понятие символизма. Декадентство, по мнению Сологуба, служит необходимой опорой символизма.
Оно ещё не достигло до поры своего расцвета. До сих пор оно представляет только ряд психологических (иногда психопатологических) опытов. Но для меня несомненно, что это презираемое, осмеиваемое и даже уже преждевременно отпетое декадентство есть наилучшее, быть может, единственное, — орудие сознательного символизма. Обращаясь к внутреннему сознанию человека, употребляя слова лишь в качестве психологических реактивов, так называемое декадентство одно только даёт возможность словесными формами указывать не непознаваемое, пробуждать в душе таинственные и глубокие волнения, и ставить её на краю преходящего бытия, в непосредственное единение с тайною [— т.е. символом].
Поэтому Сологубу не только было «непостыдно» быть декадентом, но в этом он видел естественную ступень развития новой литературы. Он с иронией наблюдал, как хоронили декадентство и провозглашали символизм.
…Вы, к моему искреннему прискорбию, в последнее время начали отметать декадентство, — писал Сологуб в июле 1897 года своему частому гостю, двадцатилетнему поэту Вл. Гиппиусу. — Это — влияние Мережковских? И особенно Зинаиды Николаевны? […] В Вас, кажется, засела злосчастная мысль о том, что время изменилось, что-то такое вышло из моды, нужно что-то иное, новое и т. д. А мне всегда смешно, когда говорят, что, например, декадентство вышло из моды. Дамские слова. Впрочем, Зинаида Николаевна серьёзно думает, что декадентство только в том и состоит, что какие-то шалопуты видят звуки и любят зло. Надо же идти по направлению к концу и сооружать храм.
Статья так никогда и не увидела свет: «Северный вестник» её не стал бы публиковать, да и Сологуб через несколько месяцев ушёл из него, а больше её никуда в то время устроить не удалось.
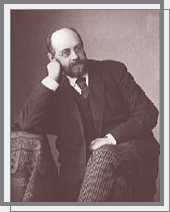 Вышедших из «Северного вестника» приютил журнал «Север», редактором которого незадолго до этого стал А. А. Коринфский. С ним и прочими авторами «Севера», — К. К. Случевским, К. М. Фофановым, М. А. Лохвицкой, — Сологуб становится постоянным участником литературных встреч, проходивших в квартире Случевского, с которым Сологуб поддерживал дружеские отношения с середины 90-х гг. На «пятницах Случевского» была особенная, не похожая на прочие литературные кружки, душевная атмосфера: собирались не для пропаганды искусства или идей, а просто пообщаться. С осени 1898 по декабрь 1903 года (т.е. до самой смерти хозяина салона) Фёдор Кузьмич не пропустил почти ни одной «пятницы». Его привлекал свободный, и в то же время камерный, характер собраний, где приветствовались игра слов и смыслов, парадоксы и афоризмы. Участники «пятниц» завели альбом, в котором фиксировали свои каламбуры, шутливые поэтические соревнования и эпиграммы: Вышедших из «Северного вестника» приютил журнал «Север», редактором которого незадолго до этого стал А. А. Коринфский. С ним и прочими авторами «Севера», — К. К. Случевским, К. М. Фофановым, М. А. Лохвицкой, — Сологуб становится постоянным участником литературных встреч, проходивших в квартире Случевского, с которым Сологуб поддерживал дружеские отношения с середины 90-х гг. На «пятницах Случевского» была особенная, не похожая на прочие литературные кружки, душевная атмосфера: собирались не для пропаганды искусства или идей, а просто пообщаться. С осени 1898 по декабрь 1903 года (т.е. до самой смерти хозяина салона) Фёдор Кузьмич не пропустил почти ни одной «пятницы». Его привлекал свободный, и в то же время камерный, характер собраний, где приветствовались игра слов и смыслов, парадоксы и афоризмы. Участники «пятниц» завели альбом, в котором фиксировали свои каламбуры, шутливые поэтические соревнования и эпиграммы:
Я мальчиков люблю, сказал поэт Эллады.
Здесь есть, пожалуй, тема для баллады.
Я девушек люблю, сказал поэт Прованса.
Здесь есть, конечно, тема для романса.
Ф. Сологуб.
А я любить тех и других готов;
Здесь тема есть для всяческих стихов.
В. Мазуркевич.
Сологубу
Романс — Прованс.
Эллада и баллада…
Такой здесь декаданс,
Что… лучше и не надо!
Сморгонский академик
(10 марта 1900)
Не только шутками оборачивалась филология Сологуба: явная и скрытая игра слов в писавшемся тогда же «Мелком бесе» обогащала смысл и придавала роману существенный символический характер. Более того, с середины 1890-х годов Сологуб создавал своего рода книгу этико-эстетических наблюдений, выраженных в лапидарной форме, под названием «Достоинство и мера вещей», в которой в созвучии с сочинениями Фридриха Ницше, Сологуб писал о «добре — зле», «силе — слабости»; напрямую к ним примыкают так называемые «Афоризмы», писавшиеся тогда же:
Кто сказал: «Сотворим человека по нашему подобию»? Бог Сатане, или Сатана Богу? Быть вдвоём — быть рабом.
Людей на земле слишком много; давно пора истребить лишнюю сволочь.
Своя смерть благоуханна, — чужая зловонна. Своя — невеста, чужая — Яга.
Обряды спасают от тоски.
В какой-то момент участники пятниц Случевского решили издавать газету наподобие их коллективного альбома под названием «Словцо». В 1899—1900 годы вышло несколько номеров. В «Словце» Сологуб публиковал краткие сатирические стихотворения под псевдонимом «Бурофоб» и «Зой»: в основном, это были отклики на события Англо-Бурской войны.
В то же время, читающей России имя Фёдора Сологуба почти ничего ещё не говорило, и делать шаги навстречу публике поэт был не склонен. На предложение выступить с чтением стихов Фёдор Кузьмич ответил:
Появление моё на эстраде не может представить для публики ни малейшего интереса, потому что я не пользуюсь в ней никаким успехом. И проза, и стихи мои или вовсе не печатаются в журналах, или печатаются неохотно, изданные мною самим книги не находят покупателей, самое имя моё известно разве только небольшому числу людей, чрезвычайно внимательно следящих за всем, что появляется в печати. (Из письма П. И. Вейнбергу от 8 ноября 1898).
* * *
Упоминавшаяся выше мнимая коллизия декадентства и символизма была чужда Сологубу, он видел в этих понятиях неразрывную связь, где стиль и образы сообщают настроения, причём иногда настолько тонкие и необъяснимые, что требуется система отсылающих аллегорий и символов, где уже метафоры мало, что могут сказать: так на рубеже веков возникли поэтические символы Сологуба, так наметилась едва уловимая грань между декадентством и символизмом.
Если в более ранних стихотворениях поэт был готов «отдаться могиле без спора», затем зачароваться природы «красой необычайной», то теперь мелькнул выход томлениям — особенно ярко это выразилось в цикле «Звезда Маир» (1898).
Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир,
И озарён прекрасною звездою
Далёкий мир.
Земля Ойле плывет в волнах эфира,
Земля Ойле,
И ясен свет блистающий Маира
На той земле.
Река Лигой в стране любви и мира,
Река Лигой
Колеблет тихо ясный лик Маира
Своей волной.
Бряцанье лир, цветов благоуханье,
Бряцанье лир
И песни жён слились в одно дыханье,
Хваля Маир.
Не на земле, а «на Ойле далёкой и прекрасной» душа поэта. Цикл произвёл впечатление на современников, и занял прочное место в образах Серебряного века. Для поэта существует и явная Ойле — некоторые стихотворения 1898-1900 гг. написаны в местности с таинственным именем «Миракс», — нет такого города и страны, это скорее мистический источник поэтических мечтаний самого Сологуба.
Но забыться в ойлейских волнах не дано поэту — достаточно отведано смертельного яда: сумрак стихов конца 1890-х гг., знакомый по первым книгам, иногда казался окончательно беспросветным.
Друг мой тихий, друг мой дальный.
Посмотри, —
Я холодный и печальный
Свет зари.
Я напрасно ожидаю
Божества,
В бледной жизни я не знаю
Торжества.
Над землею скоро встанет
Ясный день,
И в немую бездну канет
Злая тень, —
И безмолвный, и печальный,
Поутру,
Друг мой тайный, друг мой дальний,
Я умру.
Ещё:
Дни за днями…
Боже мой!
Для чего же
Я живой?
Дни за днями…
Меркнет свет.
Отчего ж я
Не отпет?
Дни за днями…
Что за стыд!
Отчего ж я
Не зарыт?
Поп с кадилом,
Ты-то что ж
Над могилой
Не поёшь?
Что же душу
Не влачат
Злые черти
В чёрный ад?
(26 сентября 1898)
Ироничные строки последнего стихотворения написаны в те же дни, что и пять пьес цикла «Звезда Маир».
Стихи этого периода были собраны в Третьей книге стихов (М.: «Скорпион», 1904). Издание интересно тем, что под одну обложку помимо Третьей вошла и Четвёртая книга стихов, на титуле же они обозначены как «Собрание стихов 1897—1903». Тем не менее, книги разные. Третья книга всё так же полна грустных и погребальных звонов, как предыдущие, тогда как Четвёртая книга представляет стихотворения иных переживаний, проникающих поэзию Фёдора Сологуба начала 1900-х. Теперь, действительность, земная жизнь не кажутся такими мрачными и безысходными. Посторонней действительности нет, ибо «Я во всём и всё во Мне». Вне моего «я» нет волевых актов, нет ничего; мир есть только Моя Воля. К этому Сологуб с самого начала своего творчества подходил медленно, но верно.
…
Потому что нет иного
Бытия, как только я:
Радость счастья голубого
И печаль томленья злого,
Всё, во всём душа моя.
5 августа 1896 («Всё во всём»)
…
Всё в этом тёмном поле
Одной покорно Воле.
Вся эта ночь — моя!
И каждая былинка,
И каждая росинка,
И каждая струя, —
Всё мне согласно внемлет,
Мечтой моей дыша.
В моём томленьи дремлет
Всемирная душа.
…
(«Не кончен путь далёкий…», Четвёртая книга стихов)
Наиболее выраженно эти мотивы были раскрыты в восьмой книге стихов «Пламенный круг» (1908). «Собрание стихов 1897—1903» явилось своего рода рубежом между декадентством и последующим символизмом, в котором утвердились символы Сологуба-поэта. При этом в декадентстве и символизме Сологуба, если их разграничить даже согласно автору статьи «Непостыдно ли быть декадентом?», не было резкого и дисгармоничного нагромождения эстетических парадоксов или нарочитой таинственности, недосказанности. Напротив, Сологуб стремился к предельной ясности и чёткости — как в лирике, так и в прозе, неустанно изучая русский язык, иссекая из него новые возможности и вводя в литературу слова когда-то заброшенные, теперь вновь говорившие благодаря поэту (например, весьма характерно использование, редкое для современного русского языка, множественного числа от слов-герундиев: «очарования», «обитания», «волхвования», «томления» и другие). Также символизм Сологуба не отсылал к всеобщему тайному, он был создан по воле самого поэта, с множеством личных символов и аллегорий. Эти символы и мифы были созданы самим поэтом, только для него, и только через них он сообщал свои переживания. После того поэт придавал каждому сборнику своё особое имя и значение.
Стоит также отметить, что по книгам Сологуба можно скорее судить о том, что хочет сказать Сологуб этой книгой в данный миг, какую хочет показать поэтическую маску, но не хронику своего дарования: ведь в свои книги он включал равноправно как старые, так и новейшие свои стихотворения. Сологуб придавал большое значение датировке стихов: фиксировал даже их последовательность, если они были написаны в один день, так же датировались отдельные строфы стихотворений. И потому отсутствие дат под стихами в книгах Сологуба указывало на его желание не отвлекать читателя возрастом стихотворения, в то время как в других книгах он напротив скрупулёзно ставил даты и место написания, очевидно сознательно вкладывая в книгу время, позволяя ему входить в реакцию с темами и техникой стихотворений. Главное же — общность настроений. Но это дало повод говорить о неизменности, повторяемости его поэзии, где трудно уловить чёткие периоды поэтического развития (как, например, у Блока). Однако Сологуб не сразу делился с читателем своими новыми озарениями и настроениями — он мог придержать стихотворение, — даже если оно очень «эффектное», — многие годы. Кроме того, поэт не расставался со своими прежними переживаниями — они мирно уживались в нём.

VI
«МЕЛКИЙ БЕС»
О романе
(1902—1907)
 ЕТОМ 1902 ГОДА БЫЛ ОКОНЧЕН роман «Мелкий бес». Как сказано в предисловии, роман писался десять лет (1892—1902), хотя в действительности работа над собственно «Мелким бесом» началась с 1897 года: до этого было множество набросков, планов, которые частично предполагались для «Тяжёлых снов», но так и не вошли в первый роман. Провести роман в печать оказалось не легко. Несколько лет Фёдор Кузьмич обращался в редакции различных журналов, — рукопись читали и возвращали, роман казался «слишком рискованным и странным». ЕТОМ 1902 ГОДА БЫЛ ОКОНЧЕН роман «Мелкий бес». Как сказано в предисловии, роман писался десять лет (1892—1902), хотя в действительности работа над собственно «Мелким бесом» началась с 1897 года: до этого было множество набросков, планов, которые частично предполагались для «Тяжёлых снов», но так и не вошли в первый роман. Провести роман в печать оказалось не легко. Несколько лет Фёдор Кузьмич обращался в редакции различных журналов, — рукопись читали и возвращали, роман казался «слишком рискованным и странным».  Лишь в начале 1905 года роман удалось устроить в журнал «Вопросы жизни», но его публикация оборвалась на 11-номере в связи с закрытием журнала. Время было неспокойное, политические ожидания возвысились над вопросами искусства и литературы, и «Мелкий бес» прошёл незамеченным широкой публикой и критикой. Только когда роман вышел отдельным изданием, в марте 1907 года, книга получила не только справедливое признание читателей и стала объектом разбора критиков, но и просто явилась одной из самых популярных книг России. Через год вышло второе издание, потом сразу третье, потом ещё и ещё — в общей сложности, при жизни Сологуба, вышло 10 изданий «Мелкого беса». Лишь в начале 1905 года роман удалось устроить в журнал «Вопросы жизни», но его публикация оборвалась на 11-номере в связи с закрытием журнала. Время было неспокойное, политические ожидания возвысились над вопросами искусства и литературы, и «Мелкий бес» прошёл незамеченным широкой публикой и критикой. Только когда роман вышел отдельным изданием, в марте 1907 года, книга получила не только справедливое признание читателей и стала объектом разбора критиков, но и просто явилась одной из самых популярных книг России. Через год вышло второе издание, потом сразу третье, потом ещё и ещё — в общей сложности, при жизни Сологуба, вышло 10 изданий «Мелкого беса».
В романе изображена душа зловещего учителя-садиста Ардальона Борисыча Передонова на фоне тусклой бессмысленной жизни провинциального города. Душа мелкая, завистливая, злая, изводимая вдобавок пошлой серой «недотыкомкой», довела Передонова до полного бреда и потери реальности.
Учитель русского языка томится в ожидании места инспектора, которое ему обещано далёкой княгиней, правда, обещано не ему лично, а через его сожительницу, «четвероюродную сестру» Варвару. «Его чувства были тупы, и сознание его было растлевающим и умертвляющим аппаратом. Всё доходящее до его сознания претворялось в мерзость и грязь. В предметах ему бросались в глаза неисправности, и радовали его. […] У него не было любимых предметов, как не было любимых людей, — и потому природа могла только в одну сторону действовать на его чувства, только угнетать их. Также и встречи с людьми. Особенно с чужими и незнакомыми, которым нельзя сказать грубость. Быть счастливым для него значило ничего не делать и, замкнувшись от мира, ублажать свою утробу». «Сумрачными глазами» Передонов глядел на мир и людей. «На улице всё казалось Передонову враждебным и зловещим». «Это — нехороший город, — думал Передонов, — и люди здесь злые, скверные; поскорее бы уехать в другой город, где все учителя будут кланяться низенько, а все школьники будут бояться и шептать в страхе: инспектор идёт. Да, начальникам совсем иначе живётся на свете».
Параллельно развёртывается панорама окружающей жизни, — всего того, что лепится к среднему, «маленькому», человеку, и хоть эта жизнь словно стеной отгорожена от Передонова, — он вовсе не антигерой: «под конец романа, — пишет критик Боцяновский, — вас уже страшит не этот маньяк, не сам Передонов, а то общество, которое нисколько не лучше его. Матери и невесты наперебой стараются его залучить в свою семью. Окружающие преспокойно с ним уживаются. […] Пусть всем известно, что эти люди, быть может, нередко даже просто психически ненормальны, но с ними считаются». («Передоновщина — не случайность, а общая болезнь, это и есть современный быт России» — подтверждает сам писатель.)
…[Передонов] отправился домой. Смутные, боязливые мысли медленно чередовались в его голове.
Вершина окликнула его. Она стояла за решёткою своего сада, у калитки, укутанная в большой чёрный платок, и курила. Передонов не сразу признал Вершину. В её фигуре пригрезилось ему что-то зловещее, — чёрная колдунья стояла, распускала чарующий дым, ворожила. Он плюнул, зачурался. Вершина засмеялась и спросила:
— Что это вы, Ардальон Борисыч?
Передонов тупо посмотрел на неё, и, наконец, сказал:
— А, это — вы! А я вас и не узнал.
— Это — хорошая примета. Значит, я скоро буду богатой, — сказала Вершина.
Передонову это не понравилось: разбогатеть-то ему самому хотелось бы.
— Ну, да, — сердито сказал он, — чего вам богатеть! Будет с вас и того, что есть.
— А вот я двести тысяч выиграю, — криво улыбаясь, сказала Вершина.
— Нет, это я выиграю двести тысяч, — спорил Передонов.
— Я — в один тираж, вы — в другой, — сказала Вершина.
— Ну, это вы врёте, — грубо сказал Передонов. — Это не бывает, в одном городе два выигрыша. Говорят вам, я выиграю.
Вершина заметила, что он сердится. Перестала спорить. Открыла калитку и, заманивая Передонова, сказала:
— Что ж мы тут стоим? Зайдите, пожалуйста, у нас Мурин.
Имя Мурина напомнило Передонову приятное для него, — выпивку, закуску. Он вошёл.
[…] От стакана Мурина сильно пахло ромом, а Виткевич положил себе на стеклянное блюдечко в виде раковины много варенья. Марта с видимым удовольствием ела маленькими кусочками сладкую булку. Вершина угощала и Передонова, — он отказался от чая.
«Ещё отравят, — подумал он. — Отравить-то всего легче, — сам выпьешь, и не заметишь, яд сладкий бывает, а домой придёшь, и ноги протянешь».
Как и Логина в «Тяжёлых снах», Передонова страшит сама жизнь. Если Логин говорит: «Я как-то запутался в своих отношениях к людям и себе. Светоча у меня нет… Мне жизнь страшна… Мертва она слишком!» и почти гордится осознанием своей мертвизны, то Передонов не может объяснить себе этой тоски и этого страха, он не знает, откуда он, он лишь чувствует, что «погибает», — остаётся только чураться. А в ужас приводило его всё: улицы, трава, птицы, весь земной мир.
И погода была неприятная. Небо хмурилось, носились вороны, и каркали. Над самою головою Передонова каркали они, точно дразнили и пророчили ещё новые, ещё худшие неприятности. Передонов окутал шею шарфом, и думал, что в такую погоду и простудиться не трудно.
— Какие это цветы, Павлуша? — спросил он, показывая Володину на жёлтые цветочки у забора в чьём-то саду.
— Это лютики, Ардаша, — печально отвечал Володин.
Таких цветов, вспомнил Передонов, много в их саду. И какое у них страшное название! Может быть, они ядовиты. Вот, возьмёт их Варвара, нарвёт целый пук, заварит вместо чаю, да и отравит его, — потом, уж когда бумага придёт, — отравит, чтоб подменить его Володиным. Может быть, уж они условились. Недаром же он знает, как называется этот цветок.
Ужас и мрак Передонова вырвался наружу и воплотился в невоплотимой «недотыкомке»: «Откуда-то прибежала удивительная тварь неопределённых очертаний, — маленькая, серая, юркая недотыкомка. Она посмеивалась, и дрожала, и вертелась вокруг Передонова. Когда же он протягивал к ней руку, она быстро ускользала, убегала за дверь или под шкап, а через минуту появлялась снова, и дрожала, и дразнилась, — серая, безликая, юркая».
Недотыкомка изводила Передонова, и она же томила самого автора:
Недотыкомка серая
Всё вокруг меня вьётся да вертится, —
То не Лихо ль со мною очертится
Во единый погибельный круг?
Недотыкомка серая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою, —
Помоги мне, таинственный друг!
Недотыкомку серую
Отгони ты волшебными чарами,
Или наотмашь, что ли, ударами,
Или словом заветным каким.
Недотыкомку серую
Хоть со мной умертви ты, ехидную,
Чтоб она хоть в тоску панихидную
Не ругалась над прахом моим.
Это стихотворение написано 1 октября 1899 года, в самый разгар работы над «Мелким бесом». За это позднее ухватились некоторые критики — «Передонов это и есть Сологуб», забывая, что герой ограничен, и не способен ни обозреть себя, ни выдвинуться из намеченного ему автором круга.
«Недотыкомка у него, — размышляет Владимир Боцяновский о месте этого образа русской литературе, — своя собственная, хотя до него мучила Гоголя и почти так же мучила Достоевского. Чёрт Гоголя перекочевал к Достоевскому и теперь обосновался у Сологуба. Герои Достоевского, правда, видели его в несколько ином виде, почти всегда во сне. Чахоточному Ипполиту («Идиот») является недотыкомка в виде скорпиона. Она была вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и кажется, именно тем, что таких животных в природе нет… […] Ивану Карамазову она является в виде приличного чёрта, одетого в коричневый пиджак от лучшего портного. […] Передонов — это лишь разновидность Недотыкомки, новая форма кошмарного карамазовского чёрта…»
А вот что пишет о главном герое критик П. С. Владимиров:
Огромная философская мысль положена в основу «Мелкого беса», и эта-то мысль и служит причиной того, что роман не лежит на полках библиотек, а передаётся с рук на руки. […]
Передонов отвратителен и гадок […] Но почему же ему нет места на земле, когда он плоть от плоти и кость от кости этой земли, того быта, где жил и где «все люди встречались злые, насмешливые»? Ведь и он же был злой, насмешливый […] значит, ему место было здесь и нигде больше. Но в этом-то и весь трагизм Передонова, в его злобе-то и надо искать причину его отщепенства. Злоба тех и злоба его различны. Те злились на своих окружающих, и их злоба была преходящей, она легко сменялась обывательским простодушием, примирением, — карточный стол или выпивка являлись в таких случаях пунктом примирения.
Передонов же не мирился. Его злоба вечная, мистическая злоба. Хотя он и был сыном того быта, в котором жили все и он, но ни на кого не был похож. Он был сам по себе. «Я-то один, — а они-то все», — говорит о себе подпольный человек Достоевского, — и это же вполне применимо и к Передонову. Он не говорил, но мог бы сказать: «Я-то один, а они-то все».
Передонов был один и одинок. Все его близкие, или там друзья — не были близкими и друзьями, потому что никто из них не понимал его беспредельного горя рвущейся души из гнусных сетей гнусной недотыкомки, напротив они ещё более туманили его мысль, ещё сильнее затягивали на его шее петлю недотыкомки-Айсы, с каким-то неосознанным злорадством толкали его в самую глубокую бездну пошлости мелких страстей.
В романе же помимо сумрачных дел Передонова развивалась и история светлая, выраженная в отношениях «скромного» гимназиста Саши Пыльникова и «весёлой» барышни Людмилы Рутиловой. 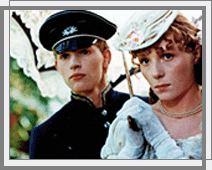 Передонову везде чудились дурманы, а яд цветочных благоуханий погружал его в пугающее уныние, — Людмила же напротив «любила духи, выписывала их из Петербурга, и много изводила их, любила ароматные цветы», любила и «наряжаться, и одевалась откровеннее сестёр», любила поэзию («Надсона, конечно!»). Одурманивая всевозможной парфюмерией и возбуждая несчастного невинного юношу потехи ради, Людмила скоро сама влюбилась в него. На Пыльникове Людмила Рутилова отрабатывала все свои желания, а он — лишь покорялся, не прочь быть посеченным или выдранным за уши милою рукою. Скоро Саша весь пропах женскими духами и в довершение всего стал наряжаться в юбки и чулки — к радости Людмилочки — ещё одного мелкого беса. Передонову везде чудились дурманы, а яд цветочных благоуханий погружал его в пугающее уныние, — Людмила же напротив «любила духи, выписывала их из Петербурга, и много изводила их, любила ароматные цветы», любила и «наряжаться, и одевалась откровеннее сестёр», любила поэзию («Надсона, конечно!»). Одурманивая всевозможной парфюмерией и возбуждая несчастного невинного юношу потехи ради, Людмила скоро сама влюбилась в него. На Пыльникове Людмила Рутилова отрабатывала все свои желания, а он — лишь покорялся, не прочь быть посеченным или выдранным за уши милою рукою. Скоро Саша весь пропах женскими духами и в довершение всего стал наряжаться в юбки и чулки — к радости Людмилочки — ещё одного мелкого беса.
— Люблю красоту. Язычница я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело. Говорят, есть душа. Не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру совсем, как русалка, как тучка под солнцем растаю. Я тело люблю, сильное, ловкое, голое, которое может наслаждаться.
— Да и страдать ведь может, — тихо сказал Саша.
— И страдать, и это хорошо, — страстно шептала Людмила. — Сладко и когда больно, — только бы тело чувствовать, только бы видеть наготу и красоту телесную.
— Да ведь стыдно же без одежды? — робко сказал Саша.
Людмила порывисто бросилась перед ним на колени. Задыхаясь, целуя его руки, шептала:
— Милый, кумир мой, отрок богоравный, на одну минуту, только дай мне на одну минуту полюбоваться твоими плечиками.
Людмила и Саша быстро подружились нежною, но беспокойною дружбою. Дружба милая, но отравленная вынужденной несвободой, принуждённой тайной, которая проникала их отношения чем-то тяжёлым, ими ещё еле уловляемым.
Образ города в романе восходит к Вытегре, где Сологуб жил в 1889—1892 гг. Персонажи «Мелкого беса», также как и «Тяжёлых снов», были наделены чертами своих живых моделей. Были реальные Передонов, барышни Рутиловы, история с маскарадом. Насколько известно, прототипом учителя был некий Страхов, по словам Сологуба, более безумный, чем Передонов, и действительно сошедший окончательно с ума в 1898 году. Что касается «симфонии духов» Людмилы Рутиловой, то большим любителем парфюмерии был сам Фёдор Кузьмич, на столе у которого, по воспоминаниям современников, всегда стоял флакон с духами. И дело даже не в самой парфюмерии, сколько в значении запаха, аромата для творчества Сологуба в целом. Какие-то части, предполагавшиеся для «Тяжёлых снов» и оставленные, получили, наконец, своё развитие в «Мелком бесе». Было в романе и множество эпизодов, не включённых в окончательную редакцию, в частности глава, повествующая о приезде в городок двух столичных литераторов. Эта глава («Тургенев и Шарик») была опубликована в 1912 году и вызвала неудовольствие Максима Горького, приписавшего образ одного из литераторов себе.
Этот роман — зеркало, сделанное искусно. Я шлифовал его долго, работая над ним усердно. Ровна поверхность моего зеркала, и чист его состав. Многократно измеренное и тщательно проверенное, оно не имеет никакой кривизны. Уродливое и прекрасное отражаются в нём одинаково точно. (Из предисловия автора ко 2-му изданию, январь 1908)

VII
ЛИТУРГИЯ МНЕ
«Жало смерти» — Совершенное самоутверждение — «Змий»
(1903—1906)
 ЛОЖНЫМ ПЕРИОДОМ в творчестве Сологуба явились годы 1902—1904. Одно за другим сменяются его вдохновения, и философские настроения, — сменяются, обогащая лирику новыми образами, символами, которые затем будут неоднократно вызываться в собственной творческой системе. Если раньше Сологуб был глубоко «в себе», то теперь он осматривает мир. И довольно удивительны его наблюдения: в этом или ином мире всё равно один. Уже мечталось поэту далёкая «земля Ойле», теперь же возникает пространство, где можно творить по своей воле: ЛОЖНЫМ ПЕРИОДОМ в творчестве Сологуба явились годы 1902—1904. Одно за другим сменяются его вдохновения, и философские настроения, — сменяются, обогащая лирику новыми образами, символами, которые затем будут неоднократно вызываться в собственной творческой системе. Если раньше Сологуб был глубоко «в себе», то теперь он осматривает мир. И довольно удивительны его наблюдения: в этом или ином мире всё равно один. Уже мечталось поэту далёкая «земля Ойле», теперь же возникает пространство, где можно творить по своей воле:
Преодолев тяжёлое косненье
И долгий путь причин,
Я сам — Творец и сам — своё Творенье,
Бесстрастен и один.
…
Но «преодолеть тяжёлое косненье» и переместиться «туда» возможно лишь через смерть.
Настало время чудесам.
Великий труд опять подъемлю.
Я создал небеса и землю,
И снова ясный мир создам.
Настало творческое время.
Земное бремя тлеет вновь.
Моя мечта, моя любовь
Восставит вновь иное племя.
Подруга-смерть, не замедляй,
Разрушь порочную природу,
И мне опять мою свободу
Для созидания отдай.
И даже любовь, в которой «чувствуется какая-то всегдашняя близость преступления» (выражение И. Анненского), отождествляется со смертью, — силой прежде бывшей унылой и мрачной.
…
И в звонах ласково-кристальных
Отраву сладкую тая,
Была милее дев лобзальных
Ты, смерть отрадная моя!
(«Любовью лёгкою играя…»)
…
Для смерти лишь открою
Потайное окно.
(«Не я воздвиг ограду…»)
«В самом стиле его писаний есть какое-то обаяние смерти, — пиcал Корней Чуковский. — Эти застывшие, тихие, ровные строки, эта, как мы видели, беззвучность всех его слов — не здесь ли источник особенной сологубовской красоты, которую почуют все, кому дано чуять красоту? В его стихах всегда холодно, как бы не распалялся в них небесный змий, холодно и тихо; им было бы не к лицу «восклицать», «шуметь», захлёбываться».
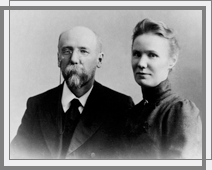 Особо ярко символ «смерти утешительной» выразился в рассказах, которые составили вышедшею в сентябре 1904 года книгу «Жало смерти». Главными героями книги были по-прежнему дети или подростки. В отличие от «Теней», первой книги рассказов (1896), общее безумие отступает перед манящей, не столько ужасной, сколько действительно «утешительной» смертью. Герои скованы этим смертельным томлением, — состояние, нашедшее в произведениях Сологуба своё идеальное воплощение. В пограничной зоне смерти и жизни бродят маленькие души героев — Ваня и Коля в рассказе «Жало смерти», поддавшись циничному шёпоту смерти, топятся; от Саши в рассказе «Земле земное» смерть отступает лишь в самый последний момент, отпуская его «к жизни земной, в путь истомный и смертный»; страшное свидетельство смерти преследует Митю из «Утешения», находящему освобождение от яда земной памяти в повторении виденной смерти. Из общего строя книги выпадает удивительный крохотный рассказ «Обруч» о старике-рабочем, который под конец своей угрюмой жизни нашёл радость в игре с обручем, став, таким образом, почти ребёнком. Особо ярко символ «смерти утешительной» выразился в рассказах, которые составили вышедшею в сентябре 1904 года книгу «Жало смерти». Главными героями книги были по-прежнему дети или подростки. В отличие от «Теней», первой книги рассказов (1896), общее безумие отступает перед манящей, не столько ужасной, сколько действительно «утешительной» смертью. Герои скованы этим смертельным томлением, — состояние, нашедшее в произведениях Сологуба своё идеальное воплощение. В пограничной зоне смерти и жизни бродят маленькие души героев — Ваня и Коля в рассказе «Жало смерти», поддавшись циничному шёпоту смерти, топятся; от Саши в рассказе «Земле земное» смерть отступает лишь в самый последний момент, отпуская его «к жизни земной, в путь истомный и смертный»; страшное свидетельство смерти преследует Митю из «Утешения», находящему освобождение от яда земной памяти в повторении виденной смерти. Из общего строя книги выпадает удивительный крохотный рассказ «Обруч» о старике-рабочем, который под конец своей угрюмой жизни нашёл радость в игре с обручем, став, таким образом, почти ребёнком.
Вячеслав Иванов в статье-рецензии «Рассказы Тайновидца» писал:
Душа рассказов — глубокая скорбь земного существования, обостряющаяся до последнего отчаяния….
Смерть — дружественная сила, и пока человек не вышел из своего рая, он доверчиво взирает на неё, да и нет для него различия между нею и жизнью: оба мира глядятся друг в друга в этой промежуточной полосе, и каждый из них — жизнь. Но совершается грехопадение, и жизнь — уже смерть, и смерть — впервые смерть как сила враждебная, и человек бежит, но не убегает от неизбежной. Nolentem fata trahunt…
Одно детство, не знающее смерти, ни страха, ни стыда, — как бы отголосок и продолжение забытого рая земли. И лучше умереть телу, чем душе в тот роковой миг, когда человек снова изгоняется из рая. Мистерия детства — его святости и его грехопадения — вот содержание этой книги о детях…
В рассказе «Красота» барышня Елена, насыщаясь красотой своего тела, не находит соответствия этой красоте в окружающем мире и убивает себя. Культ нагого тела в лирике Сологуба претерпел изменения — бывшее прежде объектом жестоких натуралистических стихов, тело теперь приобретает символическое назначение — свободы, радости. Сологуб в ту пору даже сам занимался фотографией «ню».
Люблю тело. Свободное, сильное, гибкое, обнажённое, облитое светом, дивно отражающее его. Радостное тело.
Видел несколько полотен, на которых намазано тело. Вяло, безрадостно, тускло. Смотрел на эти полотна, и думал:
— С таким телом нельзя побеждать.
И ещё думал:
— Да и правда, мы, русские, вовсе не любим тела. Целомудренны, что ли, очень? Или просто ленивы и сонны?
Изобразить обнажённое тело — значит дать зрительный символ человеческой радости, человеческого торжества. Красочный гимн, хвала человеку и Творцу его, — вот что такое настоящая картина нагого тела. Для радости, для хвалы не нужно внешнего предлога.
Я же видел оправданные положения тела, но не видел радости тела. (Из статьи «Полотно и тело», 1905)
Прежний, традиционный «Бог» исчезает, Сологуб оставляет для творчества лишь Его символы. Происходит обращение к Сатане, но в Нём видится не проклятье и отрицание Бога, а тождественная противоположность, необходимая и так же помогающая тем, кто в ней нуждается.
…
И верен я, Отец мой, Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал,
И Ты меня из бездны спас.
Тебя, Отец мой, я прославлю
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю,
И соблазняя соблазню.
( «Когда я в бурном море плавал…»)
«Если мы противополагаем Дьявола Богу и если противоположение наше верно, т. е. всё в одном имеет устремление прямо противоположное устремлениям в другом, то мы неизбежно придём, внимательно анализируя два противоположенные понятия, к признанию их совершенной тождественности. (Из статьи «Человек человеку дьявол», 1906)
Над этой тождественностью воздвигается Я, — единая Воля, претворяемая Мною. Весь мир принимается, как есть, поскольку заключён во Мне, во Мне сходятся все противоположности, все да и нет.
…
В тёмном мире неживого бытия
Жизнь живая, солнце мира — только Я.
(«То не слёзы, — только росы, только дождь…»)
«Свободен только Я. Последнее освобождение — удел того только, кто придёт ко Мне и примет Мой закон великого тождества совершенных противоположностей. Всякое иное приближение к решению задачи — призрачно и обманчиво». (Из статьи «О недописанной книге», 1906)
Философия Сологуба того времени наиболее полно была выражена им в эссе «Я. Книга совершенного самоутверждения». Эссе было написана на рубеже 1903—1904 гг. и опубликовано в феврале 1906 года в журнале «Золотое руно» (именно тогда поэт вновь обратился к тем же настроениям). «Книга совершенного самоутверждения» открывается декларативным определением:
Благословенно всё и во всём, в неизмеримости пространств и в беспредельности времён, и в иных обитаниях, здесь и далече, — и жизнь, и смерть, и расцветание, и увядание, благословенны радость, и печаль, и всякое дыхание, — ибо всё и во всём — Я, и только Я, и нет иного, и не было, и не будет.
Всё свершается через «Меня», всё исходит и всё уходит в «Меня», всякий помысел воплощается только через «Меня», всякое «хочу» уже есть бытиё, тождественно всё, бытиё и небытиё. Ещё в стихотворении 1900 года «Если есть Иной…» Сологуб только призывает «Его», то теперь он являет «Его» в самом себе.
Сказано было некогда: люби Бога, и люби человека. Но не утешились вы. Разделяя и взвешивая две заповеди, не знали вы, которая утешительнее для вас. И препирались о любви вашей, но не было у вас любви к богам вашим, ни к человекам. И не знали вы, почему нет любви. Но для любви надо иметь предмет любви, и такого предмета у вас не было, и не могло быть, ибо нет в неизмеримостях времён и пространств и иных обителей Иного, кроме Меня. Это было вам сказано, но вы не поняли.
Даю же вам новую заповедь, единую: люби Меня. Вы, полагающие цели свои вне себя, любите Меня и только Меня, ибо я полагаю единую и святую цель во Мне.
[…]
Всё во Мне. Но вам не открыл Я полноты всего. Ещё пророчествую. Отрочествую. Так хочу. Но и в отроке — полнота бытия, и в пророчестве — полнота истины. Вы же по мере понимания вмещаете, и по мере сил исполняете.
[…]
Воскресение — утешение слабым. Мне же не надо вокресения, Я не умру. И не мог бы умереть.
Разделённые и многообразные лики — все они только личины Мои. Всё отдельное — отдельно от Меня.
[…]
Слабому свойственно делать то, чего он хочет. Желания его над волей его. И нет у него воли. Ибо воля — одна, только Моя воля. И нет иной воли. И вот слабые раздираются желаниями своими. Моя же сила — создать и то, что Я хочу, и то, чего Я не хочу.
Воля Моя без причины, и только волею Моею созданы бытиё Моё и небытиё Моё. Из небытия воздвиг Я бытиё Моё, и в небытии растворил его. И основы бытия Моего несокрушимы, ибо их нет.
О, брат Мой, пойми тайну Мою, поверь великому отождествлению противоположностей, бытия и небытия.
Законом всякого явления положил Я претворение небытия в бытиё, и бытия в иное небытиё, и тождество всяких противоположностей.
[…]
Бытиё Моё несомненно, — и вне Меня — бездна небытия, непостижимая Тайна Моя, Тайна о том, что не-Я, что не есть — Невеста Моя. Ибо хочу Я быть Мною, и быть не-Мною. И в исполнении каждого помышления Моего — всё могущество Моё.
И как бы Я сказал, что Тебя нет, если Ты одна есть то, чего Я не хочу, — итак, Ты есть единственная опора воли Моей.
На безднах основал Я бытие Моё, — и если воля Моя во всём, то Ты есть то, чего Я не хочу. Но всё то, что есть, потому есть, что Я хочу.
И если есть жизнь иная… о, безликая Тайна Моя. Ты — Моя, но Ты — не Я. Тайна Моя, Ты — Отрицание Моё, безликая, тёмная, лишённая всяких подобий.
(Из эссе «Я. Книга совершенного самоутверждения»)
Последовательно исходя из своей философии, Сологуб затем пишет мистерии «Литургия Мне» (1906), «Томления к иным бытиям» (1907) и приходит к идее «театра одной воли» и заветному символу — «творимой легенде».
С богоборчеством того периода связан поэтический миф о Змии — «Змей небесный», «злой и мстительный Дракон» — так нарекается солнце, воплощающее зло и земные тяготы в цикле «Змий» и прозе 1902—1906 гг. («Чудо отрока Лина», «Творимая легенда» и др.). Восемнадцать стихотворений разных лет (в основном 1902—1904), в которых начальствует символ «змия», были скомпонованы Сологубом в цикл «Змий», вышедший отдельным изданием в качестве шестой книги стихов в марте 1907 года.
Цикл открывается стихотворением «Медный змий» на сюжет из Ветхого Завета, в котором устанавливается причина прихода змей и водружение противостоящего им медного змия, устанавливается и смыслообразующая композиция всего цикла. Несмотря на то, что «Восходит Змий горящий снова, // И мечет грозные лучи», этот «Злой дракон, горящий ярко там, в зените» не тождественен до конца солнцу.
Два солнца горят в небесах,
Посменно возносятся лики
Благого и злого владыки,
То радость ликует, то страх.
Дракон сожигающий, дикий,
И Гелиос, светом великий, —
Два солнца в моих небесах.
…
Цикл завершает стихотворение «Я один в безбрежном мире, я обман личин отверг…», напрямую сближающее цикл с идеями «Книги совершенного самоутверждения». Очевидно значение, которое Сологуб придавал этой шестой книге стихов; для поэта было важно движение — путь, сопряжённый с борьбой, завершающейся то победами, то поражениями — одновременное сочетание прошлого, настоящего, будущего, ежемгновенное столкновение противоположностей — поэзия Сологуба всегда пламенна, даже тогда, когда душу сковывает смертельная усталость — здесь и возникает творимая легенда — «столкновение бешеных воль».
Алой кровью истекая в час всемирного томленья,
С легким звоном злые звенья разжимает лютый Змей.
Умирает с тихим стоном Царь полдневного творенья.
Кровью Змея пламенея, ты жалеть его не смей.
Близок срок завороженный размышленья и молчанья.
Умирает Змей багряный, Царь безумного сиянья.
Он царил над небосклоном, но настал печальный час,
И с протяжным, тихим стоном Змей пылающий погас.
И с бессильною тревогой окровавленной дорогой,
Все ключи свои роняя, труп Царя влечет Заря,
И в томленьи грусти строгой месяц бледный и двурогий
Сеет мглистые мечтанья, не грозя и не горя.
Если страшно, если больно, если жизни жаль невольно, —
Что твой ропот своевольный! Покоряйся, — жить довольно.
Все лучи померкли в небе и в ночной росе ключи, —
И опять Она с тобою. Слушай, слушай и молчи.

VIII
ВОСКРЕСЕНЬЯ У СОЛОГУБА
Уголок поэзии в Петербурге — Частые гости
(1899—1907)
 СЕРЕДИНЕ 1900-Х В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ было несколько центров современной литературной жизни — салон Мережковских в доме Мурузи на Литейном, среды на «башне» у Вячеслава Иванова, и — воскресенья у Сологуба. Каждый из этих кружков был непохож на другие, хотя люди, посещавшие их, были в большинстве одни и те же. И если в салоне Мережковских кричали, у Вяч. Иванова были во власти мистики, то у Сологуба было покойно и тихо до жути. СЕРЕДИНЕ 1900-Х В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ было несколько центров современной литературной жизни — салон Мережковских в доме Мурузи на Литейном, среды на «башне» у Вячеслава Иванова, и — воскресенья у Сологуба. Каждый из этих кружков был непохож на другие, хотя люди, посещавшие их, были в большинстве одни и те же. И если в салоне Мережковских кричали, у Вяч. Иванова были во власти мистики, то у Сологуба было покойно и тихо до жути.
Кружок образовался у Сологуба ещё в середине 1890-х, но тогда его посещали действительно только «посвящённые»: Александр Добролюбов, Владимир Гиппиус, Иван Коневской и другие — составлявшие ядро тогдашнего декадентства. 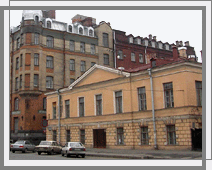 В начале 1899 года Фёдор Кузьмич перевёлся из Рождественского в Андреевское городское училище. В нём он стал не только учителем, но и инспектором с полагающейся по статусу казённой квартирой при училище (до того Сологуб в течении шести лет переезжал с места на места, не имея постоянного петербургского адреса). Туда-то, на 7-й линию Васильевского Острова, и пробирались участники его «воскресений». «Дом был двухэтажный, — вспоминал один из тогдашних посетителей Сологуба К. Эрберг. — Визжавшая входная дверь на лестницу захлопывалась при помощи блока; в конце верёвки ездила вверх и вниз бутылка с песком». В начале 1899 года Фёдор Кузьмич перевёлся из Рождественского в Андреевское городское училище. В нём он стал не только учителем, но и инспектором с полагающейся по статусу казённой квартирой при училище (до того Сологуб в течении шести лет переезжал с места на места, не имея постоянного петербургского адреса). Туда-то, на 7-й линию Васильевского Острова, и пробирались участники его «воскресений». «Дом был двухэтажный, — вспоминал один из тогдашних посетителей Сологуба К. Эрберг. — Визжавшая входная дверь на лестницу захлопывалась при помощи блока; в конце верёвки ездила вверх и вниз бутылка с песком».
Фёдор Кузьмич встречал гостей и провожал в столовую, где их ожидал стол, уставленный закусками, приготовленными сестрой, Ольгой Кузьминичной. Всех удивляла эта тусклая комната, чисто убранная, уставленная фикусами в горшках, рододендронами, с лампадками по углам, и на фоне такой неожиданной для «декадента» обстановки контрастировал сам облик писателя — сумрачный и холодный. Медленно обходя гостей, хозяин приговаривал загробным голосом:
— Кушайте, господа, кушайте! Прошу вас, кушайте!
За столом велись разговоры исключительно литературные. Вторая половина вечера протекала в чтении стихов, драм, рассказов. Все «переходили в хозяйский кабинет, — от столовой направо. Письменный стол был здесь на первом плане и стоял близ окна. А глубину комнаты занимали мягкие мебели с простой обивкой. Сологуб усаживался под лампу к самой стене; прочие — т. е. гости — садились в промежутке. Несколько стульев оставались свободными. Несколько раз Сологуб приглашал гостей занимать стулья близ него; многим приходилось «толпиться» в дверях. Однако гости следовали его приглашению с неохотой. Сологуб хлопал по стулу ладонью раз и два, и наконец кто-нибудь подымался и проходил в комнату, — точно повинуясь гипнотической силе» (из воспоминаний В. Пяста).
Присутствующие, вызываемые Фёдором Кузьмичом, поочередно читали свои произведения. Прочитанное не обсуждалось; выслушав из уст хозяина неизменное «Благодарю вас», читавший или отходил, или, по просьбе, читал ещё что-нибудь. Главным здесь было мастерство стиха, совершенство образа, и сюда стремились те, кто хотел услышать поэзию и ничего более. Будучи весьма придирчивым к стиху, Сологуб, тем не менее, старался поддержать юные таланты, а авторов слишком самонадеянных ставил на место.
Приехал как-то, — пишет Тэффи, — из Москвы плотный выхоленный господин, печатавшийся там в каких-то сборниках, на которые давал деньги. Был он, между прочим, присяжным поверенным. И весь вечер Сологуб называл его именно присяжным поверенным.
— Ну, а теперь московский присяжный поверенный прочтёт нам свои стихи.
Или:
— Вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные.
Выходило как-то очень обидно, и всем было неловко, что хозяин дома так измывается над гостем.
Под конец Сологуб читал что-нибудь из своего ненапечатанного: стихи, рассказ, пьесу или отрывок из романа (так в те годы им были прочитаны «Мелкий бес», «Навьи чары», «Дар мудрых пчёл», поэтический цикл «Змий»). Один из таких вечеров у Сологуба был описан довольно подробно в прессе (Газета Шебуева. 1906. № 2).
 Кто же были гостями «воскресений» Сологуба? Приходили старые знакомые по 1890-ым годам — З. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Минский, А. Волынский. Но больше было молодых, новых поэтов, у многих из которых не было ещё ни одной изданной книги. Это были представители нового — многочисленного, более уверенного, быстро объединяющегося и проникающего всюду, незнакомого с прежнею отчуждённостью и литературным одиночеством — поколения символистов. Самыми частыми гостями были А. Блок, М. Кузмин, А. Кондратьев, Г. Чулков, К. Эрберг, Вяч. Иванов, С. Городецкий, Тэффи, А. Ремизов, Ю. Верховский, П. Потёмкин, К. Чуковский, С. Ауслендер, В. Пяст, приезжал Андрей Белый, В. Брюсов. Бывали, впрочем, писатели и совершенно иных направлений: Б. Зайцев, Н. Бердяев, Л. Шестов, П. Щёголев, С. Сергеев-Ценский, В. Уманов-Каплуновский. Приходили художники, в основном из круга «Мира искусства» — Л. Бакст, М. Добужинский, К. Сомов, И. Билибин; актёры и актрисы — В. Качалов, Веригина, Волохова, режиссёры — Н. Евреинов, В. Мейерхольд. Популярность в культурной среде «воскресений» Сологуба росла, появлялось всё больше новых лиц, и скоро кабинет и столовая не вмещали всех пришедших (а набиралось до 30-40 человек). Собрания были перенесены в большую залу училища, да и то стульев по-прежнему не хватало на всех, сидели только дамы и старцы. И на столе, по выражению Корнея Чуковского, уже «никаких разносолов: хлеб, колбаса, самовар». Кто же были гостями «воскресений» Сологуба? Приходили старые знакомые по 1890-ым годам — З. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Минский, А. Волынский. Но больше было молодых, новых поэтов, у многих из которых не было ещё ни одной изданной книги. Это были представители нового — многочисленного, более уверенного, быстро объединяющегося и проникающего всюду, незнакомого с прежнею отчуждённостью и литературным одиночеством — поколения символистов. Самыми частыми гостями были А. Блок, М. Кузмин, А. Кондратьев, Г. Чулков, К. Эрберг, Вяч. Иванов, С. Городецкий, Тэффи, А. Ремизов, Ю. Верховский, П. Потёмкин, К. Чуковский, С. Ауслендер, В. Пяст, приезжал Андрей Белый, В. Брюсов. Бывали, впрочем, писатели и совершенно иных направлений: Б. Зайцев, Н. Бердяев, Л. Шестов, П. Щёголев, С. Сергеев-Ценский, В. Уманов-Каплуновский. Приходили художники, в основном из круга «Мира искусства» — Л. Бакст, М. Добужинский, К. Сомов, И. Билибин; актёры и актрисы — В. Качалов, Веригина, Волохова, режиссёры — Н. Евреинов, В. Мейерхольд. Популярность в культурной среде «воскресений» Сологуба росла, появлялось всё больше новых лиц, и скоро кабинет и столовая не вмещали всех пришедших (а набиралось до 30-40 человек). Собрания были перенесены в большую залу училища, да и то стульев по-прежнему не хватало на всех, сидели только дамы и старцы. И на столе, по выражению Корнея Чуковского, уже «никаких разносолов: хлеб, колбаса, самовар».
Сологуб был важен, беседу вёл внятно и мерно, чуть-чуть улыбаясь, — вспоминает постоянный участник тогдашних поэтических вечеров Георгий Чулков. — О житейском он почти никогда не говорил. Я никогда от него не слышал ни одного слова об его училище, об учениках. Кажется, он был превосходный педагог. Учителем он был, несомненно, прекрасным. Он любил точность и ясность и умел излагать свои мысли с убедительностью математической. Чем фантастичнее и загадочнее была его внутренняя жизнь, тем логичнее и строже он мыслил. […] Он в совершенстве владел техникой спора. Самые рискованные парадоксы он блестяще защищал, владея диалектикою, как опытный фехтовальщик шпагою.
Некоторых он пугал насмешливостью, иных он отталкивал своею обидчивою мнительностью, другим он казался холодным и злым. Но мне почему-то он сразу внушил к себе доверие, и я разглядел за холодною маскою то иронического, то мнительного человека его настоящее лицо — лицо печального и доброго поэта. Но обидчив и мнителен он был в самом деле болезненно.
Да, других Сологуб отчуждал от себя своим характером, но были и такие, которые, несмотря на чуждость, искренно пытались понять личность поэта, но заходили в своих догадках в такую пугающую их самих область, что останавливались. «На душе у него что-то преступное, — говорил человек, издавна знавший Сологуба. — Ядовитое создание». А вот как описывает Сологуба посторонний ему литератор, которому случалось встречаться с поэтом:
«Я надел пальто, поднял глаза на него, чтобы попрощаться. Вы видали слепок с мёртвого лица, который как бы он ни воспроизводил черты лица — всё же не даёт живого выражения, схвачен в момент застылости, оцепенения? Так вот… Маска, совершенная маска!
И таково уже действие этого лица, этих глаз — вдруг чувствуешь, что всё, всё кругом, прикреплённое к чему-то невидимыми цепями, — беззвучно и забвенно. И всё это — вместе с этим человеком, в котором что-то смешалось и человечье, и паучье, — окружено зимним унынием, зимней пустотой. Кажется, вот-вот подойдём друг к другу и провалимся в это марево, день и ночь плывущее куда-то.
Казалось, он даже не всматривался в то, что вокруг него. Потом, напротив, я убедился, что, не глядя, всё высмотрит; что предметы, люди, повседневное всё, всё задевает его художественную восприимчивость. Но своими концами и началами эта впечатлительность уходила у него в марево. В связи с этим, может быть, и стояла молчаливость, ненарушимая многодумность его».
Нелюдимость, надменность и презрительность в характере Сологуба не были такими уж наигранными, «маской». Сологуб действительно тяжело сходился с людьми, но не потому что не понимал их, или не мог найти с ними языка, а как раз наоборот.
Не тужи, что людям непонятна
Речь твоя.
Люди — только тени, только пятна
На стене.
Расплетая, заплетая
Бреды бытия,
Эта стая неживая
Мечется во сне.
Только мы с тобой теперь узнали,
Ты да я,
Что нетленной жизнью дышат дали
В тишине.
Литературные вечера по воскресеньям у Сологуба устраивались не круглый год, — как правило, с начала сентября по апрель; приглашённые собирались к 8 часам вечера и расходились заполночь. Каждый приход гостей аккуратно фиксировался Сологубом в особых тетрадках, которые он вёл с середины 1890-ых и до конца жизни. Эти сохранившиеся списки, наравне с записями о входных и выходных письмах (описывалось также их краткое содержание) представляют своеобразный жизненный дневник. Другого и не было.
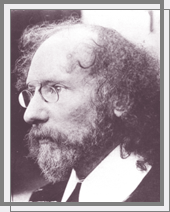 В одно такое воскресенье с Вячеславом Ивановым произошла история. Собираясь уходить от Сологуба, Вячеслав Иванович стал искать свои калоши в прихожей. Он взял одну пару, они были помечены буквой Т (т. е. Тетерников), он взял другую и там — Т. И везде Т. Это стало сводить его с ума. Наконец, он всё-таки нашёл свои калоши и вышел из дому. Начался сильный ливень, улицы потемнели. И он пропал. Все к Сологубу: «Куда вы дели Иванова?» — «Не знаю, отправился к Мережковским…» Но и там его не нашли. Потом оказалось, что отправился Иванов прямо к себе домой, лёг в постель, и велел никого не пускать. Сам Иванов был уверен, что это Фёдор Сологуб напустил дождь своими чарами: об авторе «Мелкого беса» уже в ту пору складывалась легенда как о колдуне, что прекрасно согласовывалось с канонами житий символистов. В одно такое воскресенье с Вячеславом Ивановым произошла история. Собираясь уходить от Сологуба, Вячеслав Иванович стал искать свои калоши в прихожей. Он взял одну пару, они были помечены буквой Т (т. е. Тетерников), он взял другую и там — Т. И везде Т. Это стало сводить его с ума. Наконец, он всё-таки нашёл свои калоши и вышел из дому. Начался сильный ливень, улицы потемнели. И он пропал. Все к Сологубу: «Куда вы дели Иванова?» — «Не знаю, отправился к Мережковским…» Но и там его не нашли. Потом оказалось, что отправился Иванов прямо к себе домой, лёг в постель, и велел никого не пускать. Сам Иванов был уверен, что это Фёдор Сологуб напустил дождь своими чарами: об авторе «Мелкого беса» уже в ту пору складывалась легенда как о колдуне, что прекрасно согласовывалось с канонами житий символистов.
«Воскресенья» у Сологуба прекратились в 1907 году в связи со смертью сестры и отставкой Сологуба летом того года. В дальнейшем, после женитьбы, собрания возобновились, правда, были они уже иного характера, более «салонного» и светского.

IX
СОБОРНЫЙ БЛАГОВЕСТ
Сологуб как публицист в годы Японской войны и Первой русской революции — «Родине» — Сказочки — Новые рассказы
(1904—1906)
 СЕРЕДИНЕ 1904 ГОДА Фёдор Сологуб заключил с «Новостями и Биржевой газетой» договор на постоянное сотрудничество. Оно продолжалось чуть менее года, в течение которого было опубликовано около семидесяти статей, и ещё десятки остались неопубликованными. СЕРЕДИНЕ 1904 ГОДА Фёдор Сологуб заключил с «Новостями и Биржевой газетой» договор на постоянное сотрудничество. Оно продолжалось чуть менее года, в течение которого было опубликовано около семидесяти статей, и ещё десятки остались неопубликованными.
Из символистов к собственно публицистике почти никто не обращался: Гиппиус, Мережковский, Бальмонт, Брюсов, Анненский, Блок, Волошин — все они писали художественные и эстетико-философские статьи, и если и использовали события общественной жизни и частные бытовые вопросы, то лишь в прикладном назначении. В этом свете опыт Сологуба представляется исключительным. Круг тем, которых касался Сологуб в своей публицистике, был сформирован как его служебной деятельностью, так и наиболее насущными вопросами времени: школа, дети, русско-японская война, международное положение, революция, права евреев.
В своих статьях Фёдор Сологуб исходил из своих личных наблюдений и взглядов, и менее всего его публицистика была декларативна и риторична. Писатель не занимался аналитическим разбором вопроса, не склонен был к апологетике эстетических или либеральных ценностей. С изящной лёгкостью автор излагал собственный взгляд на суть вопроса, — оттого публицистика Сологуба не померкла, не стала хроникой неведомых ныне событий, напротив, её актуальность продолжает впечатлять.
 Возможно к такой общественно-активной деятельности, как работа в газете, Сологуба подтолкнули его тогдашние духовно-эстетические искания, а именно стремление расширить влияние своей воли. Так, прежде всего, Сологуб получил возможность изложить свои взгляды на предмет, наиболее близкий ему и потому наиболее чувствительный — школу. Изначально писатель и начал публицистическую деятельность с педагогической статьи, «О городских училищах», опубликованной в 1886 году в журнале «Русский начальный учитель». Параллельно он касался мира и жизни детей, которым посвящено немало статей. Для Сологуба современная ему школа представлялась «достойным порождением полицейского государства и была вся пропитана его духом несвободы, неумелости, разлада и слабости». Возможно к такой общественно-активной деятельности, как работа в газете, Сологуба подтолкнули его тогдашние духовно-эстетические искания, а именно стремление расширить влияние своей воли. Так, прежде всего, Сологуб получил возможность изложить свои взгляды на предмет, наиболее близкий ему и потому наиболее чувствительный — школу. Изначально писатель и начал публицистическую деятельность с педагогической статьи, «О городских училищах», опубликованной в 1886 году в журнале «Русский начальный учитель». Параллельно он касался мира и жизни детей, которым посвящено немало статей. Для Сологуба современная ему школа представлялась «достойным порождением полицейского государства и была вся пропитана его духом несвободы, неумелости, разлада и слабости».
Мундиры гимназистов, экзамены, отметки, школьные программы, правила поведения, — всё это и многое другое сильно погрешает против здравого смысла, — писал Сологуб. — Мы терпим школьное безумие, потому что привыкли к безумию нашей жизни. Мы привыкли к тому, что бешеный демон безумия издевается над нами и над нашими детьми. Мы не можем не сознаться, что это безумие последовательно, что оно заковано в стальную броню несокрушимой логичности.
Педагогические статьи указывали на необходимость полного переустройства школы, изменения принципов преподавания, отношений между учителем и учеником, большего влияния общества на дела школы. Дети — основа школы, а не чиновники-преподаватели, цель школы — обучение и развитие, а не надзор и порядок. Сологуб приветствовал создание общественных и частных школ, где могла бы развиваться педагогика, где физическая сила детей сопутствовала бы их гуманнитарным и техническим знаниям. Техника вообще, по мнению Сологуба, «должна быть основой всякой современной школы на всех её ступенях. От самых низших и до самых высших. И неизбежное дополнение техники — гимнастика. Без машины мы не обходимся. Машиной господствуем над природой. Машиной должны научиться управлять. Машина и нам, и нашим детям наиболее любопытна». С примерами русских школ с частной инициативой соседствовали примеры из опыта зарубежных систем образования, которые Сологуб внимательно изучал.
Современная школа должна быть построена с таким расчётом, чтобы она образовала из своего питомца свободно определяющуюся личность, достойного члена гражданского союза, мастера по своим знаниям и умениям, господина, по власти над силами, телесными и духовными, заложенными в его организм. Свобода, единение, техника и гимнастика, — вот три якоря современной школы, какою она должна стать; школы, построенной педагогами; школы, достойной правового государства. (Из статьи «Полицейская школа»)
Только физически сильная, всесторонне развитая и крепкая духом личность может стать «гражданином» свободного общества (в рассказах Сологуба нередки герои, воспитанные в духе Спарты).
Подобная мотивация, отвергающая социальную подоплёку вопроса, была собственно выражением внутренних устремлений Сологуба — творить по своей воле свободный мир. Таково было отношение Сологуба в годы, когда Россия вступала на путь демократических преобразований. 9 января 1905 года и последующие события, взволновавшие всю страну, вызвали долгожданные перемены в государственном устройстве. Сологуб был прямым свидетелем развития Первой Русской революции. Будучи её сторонником, Сологуб менее всего думал о «народе» в либеральном смысле этого слова; интересовала его тут возможность развития личности в несокрушимого «гражданина», твёрдо осознающего свои права, способного созидать.
Обыватель становится гражданином. Вот смысл переживаемого нами исторического момента.
Процесс этого претворения обывателя в гражданина совершается медленно и трудно. Но с неотразимою силою. Медленность и трудность этого процесса совершенно понятны: уж слишком велико превращение. Из объекта начальственных попечений сделаться субъектом гражданских прав и обязанностей — это почти так же трудно, как из обезьяны стать человеком. И всё же назревшее преобразование человека, покорно повергавшегося под жестокую колесницу Джагернаута, в человека, свободно направляющего свою судьбу, совершается, и совершится.
В соответствии с изменившимся правосознанием русского общества предстоит трудный и сложный процесс переустройства государства из полицейского в правовое. Важность надвигающихся событий обязывает каждого из нас, смиренных обывателей родной земли, разобраться в наших новых гражданственных отношениях.
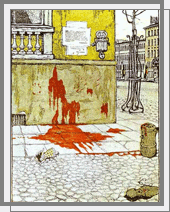 По ходу революции обнаруживалась всё большая неспособность власти реагировать на текущие события, на что общество отвечало всё более смелыми проектами и требованиями. Сологуб начинал осторожно развивать мысли о парламенте, обозначая его лишь самыми общепонятыми намёками, и сама газета так же очень осторожно пробовала публиковать подобные статьи в начале 1905 года (оттого самые острые статьи Сологуба того времени не были напечатаны); к середине года статьи Сологуба озвучивали уже открыто то, что ранее прикрывалось им лишь старательными объяснениями и примерами. Обещания власти и призрачные реформы никого не удовлетворяли, Сологуб призывал к полной свободе и созыву Земского собора для образования парламента. По ходу революции обнаруживалась всё большая неспособность власти реагировать на текущие события, на что общество отвечало всё более смелыми проектами и требованиями. Сологуб начинал осторожно развивать мысли о парламенте, обозначая его лишь самыми общепонятыми намёками, и сама газета так же очень осторожно пробовала публиковать подобные статьи в начале 1905 года (оттого самые острые статьи Сологуба того времени не были напечатаны); к середине года статьи Сологуба озвучивали уже открыто то, что ранее прикрывалось им лишь старательными объяснениями и примерами. Обещания власти и призрачные реформы никого не удовлетворяли, Сологуб призывал к полной свободе и созыву Земского собора для образования парламента.
Русское общество, — начиналась одна из статей, — бесповоротно осознало необходимость коренного переустройства русской государственной и общественной жизни. Слова — «так дальше жить нельзя» — стали уже столь шаблонными, что их и повторять не хочется. Конечно, нельзя. А всё-таки…
Всё-таки тянется, вместо необходимого и живого дела, какая-то бесконечно длинная, удручающе скучная канитель. И цель этой канители – сделать маленькие поправки и непременно сохранить то, что считается незыблемым…
Как известно, результатом Первой Русской революции явился Манифест 17 октября 1905 года, давший ряд свобод и Государственную Думу.
Параллельно шла русско-японская война, постоянные неудачи которой не в малой степени и спровоцировали революционный подъём. Война, начавшаяся в феврале 1904 года из-за обострения колониальных интересов России и Японии в Китае, явилась одной из ведущих тем статей Сологуба, написанных для «Новостей». «Пришли в столкновение не только два государства, — две расы, два разные мировоззрения, две морали испытываются одна о другую, — размышляет Сологуб об этом историческом моменте. Буддийская мораль, основанная на жалости, сострадании, страдании и призрачности бытия, и христианская, основанная на любви и утверждении мира не одержат окончательной победы друг на другом, так как уже поколеблены взаимным влиянием, и скорее будет «будущий синтез, создание нового, более совершенного миропостижения, новой морали, новой метафизики».
Собственно «война, — пишет Фёдор Сологуб, — злое нехорошее дело. Но, уж если народ вовлечён в войну, то надо воевать как можно лучше, старательнее, талантливее, с надеждою на успех». Писатель открыто выступал за победу и колониальную предприимчивость Российского государства.
Право, известно, выше силы. Право выражено в законе и отчасти в обычае, а закон поддерживается и охраняется властью, которая опирается на силу. Право господствует, сила служит.
Международное право выражено в договорах. Если государство считает свои права нарушенными, оно воюет. Победивший прав: мирный договор пишется под его диктовку. […]
Из мирных договоров возникает международное право, и живет от войны до войны. Оно очень полезно — во время мира. Но что делать с ним в военное время? […]
Можно протестовать, сколько угодно, — но самое практичное — понять, что во время войны нет никаких международных прав между воюющими сторонами и что нет ничего легче, как восстановить все нарушенные права и наказать нарушителя: стоит только победить.
Мы должны победить. Чтобы доказать свою международную правоту, надо победить. (Из статьи «Международное право», 1904)
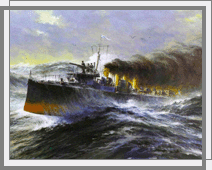 Однако к концу 1904 года, убедившись в невозможности победы, Сологуб ратует за перемирие: бездарность и неуверенность русских военачальнков вкупе с роковым невезением вели лишь к умножению жертв и никак не приближали к перемене ситуации в пользу России. Наш флот наполовину погиб, на суше дела шли не лучше. «Мы узнали, что война имеет целью доставить России господство в водах Тихого океана, чтобы в долготу веков обеспечить за Россиею те преимущества, которые вытекают из такого господства. Для всякого человека с открытыми глазами и непотемнённым разумением совершенно ясно, что в настоящее время, при настоящих средствах и способах ведения войны, цель эта не может быть достигнута» — так предельно ясно и несколько раздражённо пишет Сологуб в статье «Воскресение живых». В стихотворении «Да, были битвы», на мотив лермонтовского «Бородино», Сологуб удручённо писал: Однако к концу 1904 года, убедившись в невозможности победы, Сологуб ратует за перемирие: бездарность и неуверенность русских военачальнков вкупе с роковым невезением вели лишь к умножению жертв и никак не приближали к перемене ситуации в пользу России. Наш флот наполовину погиб, на суше дела шли не лучше. «Мы узнали, что война имеет целью доставить России господство в водах Тихого океана, чтобы в долготу веков обеспечить за Россиею те преимущества, которые вытекают из такого господства. Для всякого человека с открытыми глазами и непотемнённым разумением совершенно ясно, что в настоящее время, при настоящих средствах и способах ведения войны, цель эта не может быть достигнута» — так предельно ясно и несколько раздражённо пишет Сологуб в статье «Воскресение живых». В стихотворении «Да, были битвы», на мотив лермонтовского «Бородино», Сологуб удручённо писал:
…
Не то кингстоны мы открыли,
Не то японцы просадили
Снарядами бока.
Да, скоро будет перемена:
Сидим мы крепко у Мукдена;
Разбитым кораблям замена
Ползёт издалека.
…
Япония заставила многих русских приглядеться к этой маленькой стране, к её обычаям и задуматься о секрете её успехов. Сологуб отозвался сочувственной статьёй о японской системе образования. Итог противостоянию России и Японии Сологуб подводит в статье «Вражда и дружба стихий», написанной через неделю после Цусимского сражения в мае 1905 года.
Вновь Фёдор Сологуб обратится к жанру публицистики через десять лет — и опять в самое неспокойное для России время — 1915—1918 гг.
* * *
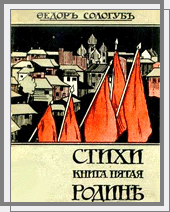 Помимо газетных статей, Сологуб отозвался на революцию пятой книгой стихов «Родине» и «Политическими сказочками». Помимо газетных статей, Сологуб отозвался на революцию пятой книгой стихов «Родине» и «Политическими сказочками».
«Родине» вышла в апреле 1906 года. Обложка книги, с развевающимися алыми знамёнами, предельно ясно выражает несимволичность сборника и его подлинную историчность. Книгу открывают «Гимны Родине», сменяющиеся демократическими стихами на тему революции (цикл «Соборный благовест», «Спутник», «Швея»), войны («Жестокие дни», «Иван-Царевич»), жестокости («От злой работы палачей»). Книга заканчивается беспросветно-мрачным стихотворением «Искали дочь», повествующим о жутком последствии подавления восстания («там, где били и рубили, у застав и у палат»):
…
Ступени скользкие вели
В сырую мглу, —
Под грудой тел мы дочь нашли
Там, на полу.
«В последние годы, — писал Блок, — Сологуб написал много политических стихов; иные из них слабее всего им написанного, отзывают плохой аллегорией на неглубокую тему; многие зато бесспорно принадлежат к лучшему, что дала русская революционная поэзия. Таково — большинство стихов в маленьком сборнике “Родине”».
Большим успехом пользовались политические сказочки Ф. Сологуба, писавшиеся в период революции. Они печатались в революционных журналах  («Молот», «Адская почта», «Ярославская колотушка», «Зеркало» и др.), быстро возникавших после объявления свободы печати, и также быстро закрывавшихся. «Сказочки» — это особый жанр у Фёдора Сологуба. Краткие, с незатейливым и остроумным сюжетом, зачастую красивые стихотворения прозе, а иногда и отталкивающие своей душной реальностью, они писались для взрослых, хотя Сологуб обильно использовал детскую лексику и приёмы детского сказа. Первая серия сказочек была написана летом 1896 года. В 1905 году Сологуб собрал часть опубликованных к тому времени сказочек в «Книгу сказок» (изд-во «Гриф»), а писавшиеся тогда же «политические сказочки» были включены в одноимённую книгу, вышедшею осенью 1906 года. Позже все сказочки вошли в 10-м том Собрания Сочинений (1910). («Молот», «Адская почта», «Ярославская колотушка», «Зеркало» и др.), быстро возникавших после объявления свободы печати, и также быстро закрывавшихся. «Сказочки» — это особый жанр у Фёдора Сологуба. Краткие, с незатейливым и остроумным сюжетом, зачастую красивые стихотворения прозе, а иногда и отталкивающие своей душной реальностью, они писались для взрослых, хотя Сологуб обильно использовал детскую лексику и приёмы детского сказа. Первая серия сказочек была написана летом 1896 года. В 1905 году Сологуб собрал часть опубликованных к тому времени сказочек в «Книгу сказок» (изд-во «Гриф»), а писавшиеся тогда же «политические сказочки» были включены в одноимённую книгу, вышедшею осенью 1906 года. Позже все сказочки вошли в 10-м том Собрания Сочинений (1910).
Три плевка
Шёл человек и плюнул трижды.
Он ушёл, плевки остались.
И сказал один плевок:
— Мы здесь, а человека нет.
И другой сказал:
— Он ушёл.
И третий:
— Он только затем и приходил, чтобы нас посадить здесь. Мы — цель жизни человека. Он ушёл, а мы остались.
Молот и цепь
Крепкий молот, проникнутый прекрасными намерениями, сделанный из лучшего железа, беседовал с железною полосою, которая лежала на наковальне. Они говорили о земных несовершенствах, о злых обидах, которыми одни осыпают других.
— Оковы — позорный остаток варварства, — говорил молот, и убеждал железо никогда не делаться цепью.
Слушая его на горячей наковальне, под жаром горна, железо смягчалось и таяло. Но вот дюжий кузнец взмахнул высоко молотом, и тяжко опустил его на железо. Посыпались красные искры, и застонала бедная полоса.
— Как, ты сам решился меня бить? — спросила она.
— Да, я бью тебя, а ты будешь терпеть. Так устроено, и я поставлен выше тебя в свете, чтобы бить по тебе.
Молот тяжко опускался на железную полосу, приговаривая с большим весом:
— Не надо жестокостей! Презренны жестокие!
Когда из железа выковались звенья прочной и длинной цепи, молот отвернулся с презрением.
— Все ренегаты таковы, — сказал он, — мягкие, как воск, в начале, в конце они не стыдятся служить кандалами.
А цепь тихо позвенивала своими прочными кольцами, и шептала:
— Так и должно быть, так всё устроено. Ещё несколько ударов по моим звеньям, — и я с наслаждением обовью тело проклятого каторжника.
Что будет?
Один мальчик спросил:
— Что будет?
Мама сказала:
— Не знаю.
Мальчик сказал:
— А я знаю.
Мама спросила:
— А что?
Мальчик засмеялся и сказал:
— А вот не скажу.
Мама рассердилась. Пожаловалась папе. Папа закричал:
— Ты как это смеешь?
Мальчик спросил:
— А что?
Папа опять закричал:
— Дерзости говорить! Ты что такое знаешь?
А мальчик испугался и сказал:
— Я ничего не знаю. Я пошутил.
Папа ещё больше рассердился. Он думал, что мальчик знает что-то, — и закричал страшным голосом:
— Говори, что ты знаешь! Говори, что будет!
Мальчик заплакал, и не мог сказать, что будет. И ему досталось. Такое ведь вышло недоразумение!
Кусочек сахару
Жила-была хозяйка. У неё был маленький ключик от шкапика. В шкапике стоял маленький ящик. В ящике лежал малюсенький кусочек сахару.
Жила у хозяйки собачонка. Она была капризная, — вдруг возьмёт, да и затявкает на хозяйку.
А хозяйка возьмёт ключик, отворит шкапик, достанет ящик и вынет кусочек сахару. Собачонка и завиляет хвостом.
А хозяйка скажет:
— Тявкала, Каприза Петровна, — вот тебе и не будет сахару.
И спрячет всё по-прежнему. Собачонка раскаивается, да поздно.
В сказочках выразилась квинтсенция сологубовского мировосприятия: невозможная реальность с изящной абсурдностью, поэтический миф о мире. В одной из «сказочек» рыцарь пленил смерть и хотел было совсем уничтожить её, но пришла жизнь — «бабища дебелая и румяная, но безобразная», и «стала она говорить такие скверные и нечестивые слова», что затрепетал рыцарь и выпустил смерть. Безобразная жизнь неистребима. Её неистребимость подчёркивается Сологубом и выбором героев: это, как правило, взрослые и дети (неостановимый круговорот поколений). Абсурдность же заключается в том, что зачастую невозможно найти причинно-следственные связи в сюжетах сказочек. «Казалось бы, виновата собачка, причина наказания — её капризы, — пишет о выше приводимой сказочке “Кусочек сахару” современный исследователь. — Но, с другой стороны, сказочный зачин (“жила-была”) и сказочное описание надежно спрятанного лакомства (как смерть Кощея на конце иглы) помещают собачку в преднаходимую, безначальную ситуацию, в которой от её воли ничего не зависит: хоть лай, хоть хвостом виляй, сохранится “статус кво”». 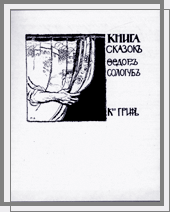 Абсурд ситуаций усугубляется тем, что в лексику и поступки героев Сологуб вводит приёмы детского мировосприятия, — прямого, не различающего иносказательности. «Детское (в данном случае, примитивное) сознание, — пишет Н. В. Барковская, — находится в плену речевых штампов, фразеологизмов-клише, в плену "сказочек" — стёртых, почти бессмысленных высказываний о жизни, закреплённых в обыденном языке. Передонову в романе "Мелкий бес" недотыкомку "наговорили", в названии цветов — "лютики" — герою слышится страшное, "лютое", ему подбрасывают наколдованную, "наговоренную" шляпу. Передонову не доступен переносный смысл слов, метафоры он понимает буквально, что и делает его мировосприятие идиотичным. Из речевой игры, из реализации метафор, из словесного потока обыденного сознания рождаются в "сказочках" многочисленные “мелкие бесы”, дурачащие людей: “чёртова бабушка” и “чёртовы куклы”; “Бай”, “Спатиньки — серенькие, маленькие”, “Хвасти — маленькие, грязненькие, поганенькие, как лишаи", “Гули — жили Гули, лили пули, ели дули", “Карачун”, “Карачки”. В какой-то степени они и составляют суть «злого земного томленья». В своём исследовании автор подводит параллели к поздним абсурдным «Случаям» Д. Хармса. Абсурд ситуаций усугубляется тем, что в лексику и поступки героев Сологуб вводит приёмы детского мировосприятия, — прямого, не различающего иносказательности. «Детское (в данном случае, примитивное) сознание, — пишет Н. В. Барковская, — находится в плену речевых штампов, фразеологизмов-клише, в плену "сказочек" — стёртых, почти бессмысленных высказываний о жизни, закреплённых в обыденном языке. Передонову в романе "Мелкий бес" недотыкомку "наговорили", в названии цветов — "лютики" — герою слышится страшное, "лютое", ему подбрасывают наколдованную, "наговоренную" шляпу. Передонову не доступен переносный смысл слов, метафоры он понимает буквально, что и делает его мировосприятие идиотичным. Из речевой игры, из реализации метафор, из словесного потока обыденного сознания рождаются в "сказочках" многочисленные “мелкие бесы”, дурачащие людей: “чёртова бабушка” и “чёртовы куклы”; “Бай”, “Спатиньки — серенькие, маленькие”, “Хвасти — маленькие, грязненькие, поганенькие, как лишаи", “Гули — жили Гули, лили пули, ели дули", “Карачун”, “Карачки”. В какой-то степени они и составляют суть «злого земного томленья». В своём исследовании автор подводит параллели к поздним абсурдным «Случаям» Д. Хармса.
Рассказы того времени мало коснулись непосредственно революционных событий. Кажется, что Сологуб наоборот ещё больше ушёл в тёмные закоулки человеческой души. Враждебные косной действительности, эти рассказы — «Два Готика», «Тело и душа», «Смерть по объявлению», «Соединяющий души», «Царица поцелуев» и другие из сборников «Истлевающие личины» (1907) и «Книга разлук» (1908) — обращались непосредственно к воле человека воссоединиться с желаемым миром. Выделялись два рассказа, где от воли человека не зависело ничего и где никакого желанного мира и в помине не было: «В толпе» и «Голодный блеск». Первый буднично, без метафор и отступлений точно фиксировал ужас напора многолюдной толпы в день народного гулянья (прототипом сюжета явилась известная трагедия на Ходынском поле 1896 года). Реалистические сцены переходят в натуралистические описания страшной давки, в центре которой оказался подросток, отчаянно пытавшийся вырваться из человеческого плена и, в конце концов, затоптанный насмерть каблуками. Натурализм, из которого вышел изначально Сологуб (как, кстати, и многие французские декаденты), был явлен здесь в своём апофеозе. В других рассказах, «Голодный блеск», «Улыбка», натурализм внешне-предметный сместился в глубины человеческой души, затронув самые мрачные её колебания. Сологуб изобразил последнее отчаяние голого, опустошённого человека, классического героя Достоевского. Недаром многие видели в Сологубе продолжателя «подпольного мира» автора «Преступления и наказания». В «Голодном блеске» воля главного героя, безработного учителя, замещена животным чувством дикой жизни, в благодатную почву которого впитывается яд рассказ об «исступлённом голодающем безумце», порезавшем картину.
Купил газету. Прочёл её на скамейке в сквере, где смеялись и бегали дети, где модничали няньки, где пахло пылью и чахлыми деревьями, — и запах улицы и сада неприятно смешивался и напоминал запах гуттаперчи. В газете поразил Мошкина рассказ об исступлённом, голодающем безумце, который в музее изрезал картину знаменитого художника.
— Вот это я понимаю!
Мошкин зашагал по аллее. Повторял:
— Вот это я понимаю!
И потом, ходя по улицам, смотря на великолепные громады богатых домов, на выставленную роскошь магазинов, на элегантные наряды прогуливающихся господ и дам, на быстро проносящиеся экипажи, на всю эту красоту и утешительность жизни, доступные для всякого, у кого есть деньги, и недоступные для него, — рассматривая, наблюдая, завидуя, испытывал всё более определяющееся чувство разрушительной ненависти. И повторялись в уме все те же слова:
— Вот это я понимаю!
Подошёл к толстому, ленивому и важному швейцару. Крикнул:
— Вот это я понимаю!
Швейцар молча и презрительно покосился на него. Мошкин радостно захихикал. Сказал:
— Молодцы анархисты!
— Проваливай! — сердито крикнул швейцар. — Не проедайся.
Мошкин отошёл. Вдруг стало страшно. Городовой стоял близко. Так резко выделялись его белые перчатки. Досадливо думал Мошкин:
«Вот бы вам бомбу сюда».
Революционнные события отхлынули, и произведения Фёдора Сологуба, наконец, привлекли к себе внимание широкой чительской аудитории, в первую очередь благодаря изданию в марте 1907 года «Мелкого беса». Сологуб к тому времени оставил публицистику и сказочки, сосредоточившись на драматургии и новом романе — «Творимая легенда» («Навьи чары»). Осенью 1907 года Сологуб занялся подготовкой седьмой книги стихов (то были переводы из Верлена), по выходу которой сразу планировалось издание восьмой книги стихов «Пламенный круг», воплотившей весь математический символизм Сологуба.

X
«ПЛАМЕННЫЙ КРУГ»
»Пламенный круг» — VII книга стихов (Верлен) — Переводы
(1908)
 ЛАМЕННЫЙ КРУГ, вышедший в феврале 1908 года в издательстве журнала «Золотое руно», был не просто сборником замечательной поэзии, напротив, менее всего эта книга была сборником, — это была эволюция, эстетически преображённая самим поэтом в круги своего творчества, где всё бесконечно и извечно переходит в новое состояние. Не отражение пройденных лет, не провозглашение новых поэтических устремлений, а душа поэта колдует книгой, «чтобы интимное стало всемирным». ЛАМЕННЫЙ КРУГ, вышедший в феврале 1908 года в издательстве журнала «Золотое руно», был не просто сборником замечательной поэзии, напротив, менее всего эта книга была сборником, — это была эволюция, эстетически преображённая самим поэтом в круги своего творчества, где всё бесконечно и извечно переходит в новое состояние. Не отражение пройденных лет, не провозглашение новых поэтических устремлений, а душа поэта колдует книгой, «чтобы интимное стало всемирным».
Рождённый не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преображений, я спокойно и просто открываю мою душу. Открываю, — хочу, чтобы интимное стало всемирным.
Тёмная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожделенные.
Жаждет чуда, — и чудо дастся ей.
И разве земная жизнь, — Моя жизнь, — не чудо? Жизнь, такая раздробленная, такая разъединённая и такая единая.
«Ибо всё и во всём — Я, и только Я, и нет иного, и не было и не будет».
«Вещи есть у меня, но ты — не вещь Моя; ты и Я — одно».
«Приди ко Мне, люби Меня».
(Предисловие к «Пламенному кругу», январь 1908)
Утверждая связь всех своих исканий и переживаний, Сологуб последовательно определил девять разделов книги:
I. Личины переживаний
II. Земное заточение
III. Сеть смерти
IV. Дымный ладан
V. Преображения
VI. Волхвования
VII. Тихая долина
VIII. Единая воля
IX. Последнее утешение
Поэтом намечается глубинно сюжетная композиция, которой подчинён весь ход внутреннего движения мотивов. Мотивы эти имеют как бы тройную природу, и развитие их идёт в трёх направлениях: по линии отображения реальности исторической ситуации, по философской и по поэтической линиям. В «Личинах переживаний» поэт предстаёт в разных ипостасях — от нюрнбергского палача до собаки, — и везде тоска по ушедшему «антибытию» — Лилит. От поэтического и мифического переходит к земному заточению, где нет молитв, нет спасению от «погибели чёрной».
Мы — пленённые звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.
Если сердце преданиям верно,
Утешаяся лаем, мы лаем.
Что в зверинце зловонно и скверно,
Мы забыли давно, мы не знаем.
К повторениям сердце привычно, —
Однозвучно и скучно кукуем.
Всё в зверинце безлично, обычно.
Мы о воле давно не тоскуем.
Мы — пленённые звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери.
Мы открыть их не смеем.
Мрак сгущается до того, что в третьем разделе «Пламенного круга» в свои права вступает смерть, и без того сторожащая каждую строчку Сологуба. Но уже давно в смерти поэту ничего ужасного не видится. Мы все родились в мёртвой стране, туда и вернёмся, лишь кто-то «злой» на время впустил нас в эту «жизнь», оттого мы так отчего-то не по земному грустим, и помним забытое. И потому «живы дети, только дети» — они ближе к прошлому миру. Надо поскорее вернуться в «тихий мир своей отчизны», в страну мёртвых — так заманчиво раскинута «Сеть смерти».
Чёртовы качели
В тени косматой ели,
Над шумною рекой
Качает чёрт качели
Мохнатою рукой.
Качает и смеётся,
Вперёд, назад,
Вперёд, назад.
Доска скрипит и гнётся,
О сук тяжёлый трётся
Натянутый канат.
Снует с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И чёрт хохочет с хрипом,
Хватаясь за бока.
Держусь, томлюсь, качаюсь,
Вперёд, назад,
Вперёд, назад,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От чёрта томный взгляд.
Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
«Попался на качели,
Качайся, чёрт с тобой».
В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
«Попался на качели,
Качайся, чёрт с тобой».
Я знаю, чёрт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки,
Пока не перетрётся,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернётся
Ко мне моя земля.
Взлечу я выше ели,
И лбом о землю — трах,
Качай же, чёрт, качели,
Всё выше, выше… ах!
Но путь смерти — понятный и безысходный, и поэт уходит один в грёзы, окутанные «дымным ладаном», от которого у чертей как раз голова болит. Один, в покое, в молчании, в печали. Откуда на злой земле мечты? Откуда всё же есть радость? Пройдя все эти печали и искушения смерти, поэт «снова непорочно молод». Что же теперь? В центральном и переломном разделе «Преображения» находится ключ к последующей части сборника и — к новому ощущению поэта — к преображению жизни, которую поэт принимает (Я), а затем отвергает мечтой (Иной) во имя творчества — пути к «Иному». Заклятья «чародейными словами» и магические камни ведьм в «Волхвованиях» не приводят к «Иному» — но только через усилие своей воли и мечты.
…
Хочу конца, ищу начала,
Предвижу роковой предел, —
Противоречий я хотел,
Мечта владычицею стала.
…
(«Наивно верю временам…»)
Ласки холодных трав «Тихих долин» успокаивают и освобождают от тщетных стараний и чар. Порой неразличимо, во что обращаеся покой природы — в смерть или сон. В последних разделах «Единая воля» и «Последнее утешение», посвящённых пересозданию «я», преображение осуществляется Волей поэта, — однако, одновременно признаётся, что всё окончится и «Что было, будет вновь, // Что было, будет не однажды». Даже более того, «Последнее утешение» отменяет всё, что до этого происходило в предыдущих разделах и снова смерть вступает в свои права. Ведь только смерть позволяет возвращаться вновь и вновь созидать. Таков круг.
В «Пламенный круг» были вовлечены стихи за очень большой период, отражающий все переживания и мотивы поэзии Фёдора Сологуба с середины 1890-х гг. до самого последнего времени. Но только в этой книге, «все эти цветы, связанные в один тяжёлый и свежий осенний сноп, приобрели то благоухание, которое они отчасти теряли на будничных страницах журналов и альманахов» (А. Блок).
Ко времени появления «Пламенного круга» относятся первые крупные критические разборы поэтического творчества Сологуба. Вдумчиво подошли к его поэзии Иванов-Разумник («Фёдор Сологуб», 1908), Иннокентий Анненский, Лев Шестов («Поэзия и проза Фёдора Сологуба», 1909).
«Знают ли у нас Сологуба? Конечно, — писал Василий Гиппиус в начале 1911 года, — быть может, нет имени более затасканного в газетах и разговорах в непременном соседстве с недотыкомкой и розгой. Но знают ли того Сологуба, который только отдалённо похож на автора кошмарных бытовых романов, Сологуба-лирика, одного из немногих в наши дни лирика до конца, лирика в каждом биении сердца? Публика не любит читать лириков, и это понятно: лирика пугает и гонит от себя далеко всех тех, кто в искусстве ищет неискусства под сладкой приправой». И далее: «Сологубовский стих намеренно скуп, порою вовсе лишён украшений, но эта строгость и простота чеканки — изысканная простота, это вольная или невольная близость к поэтам пушкинской плеяды.[…] Статистика механического ритма говорит о многообразии его ритмических фигур; к этому нужно прибавить звуковое очарование, неуловимую певучесть. Всё это делает Сологуба большим мастером стиха, знающего волшебный дар сочетания звуков и слов». Брюсов, со свойственной ему педантичностью, обнаруживает, что «в 1 томе сочинений Сологуба на 177 стихотворений более 100 различных метров и построений строф, — отношение, которое найдется вряд ли у кого-либо из современных поэтов». Андрей Белый пришёл к выводу, что из современных поэтов исключительно богаты ритмами только Блок и Сологуб, у них он констатировал «подлинное ритмическое дыхание». Корней Чуковский дополняет поэтический ландшафт Сологуба: «Он не пишет эффектных стихов — «просто так» — оттого, что влюбился, или оттого, что сегодня красиво пылала заря, — как пишет множество порою великих поэтов, его стихи не строчки для романсов, для эстрады, для декламации. Он из тех писателей — полуфанатиков, полупророков, которые знают только Бога, только свою душу, только вечность, и только смерть, — чьё творчество, малы они или велики, гениальны или только смешны, — всегда религиозно; пишут ли они о женщине или о солнце, о червяке или о сладострастии — всё это для них озарено их религией».
Поэтический мир Сологуба действует по своим законам, всё в нём взаимосвязано и символически логично. «Сологуб — прихотливый поэт и капризный, хоть нисколько не педант-эрудит, — замечает Анненский. — Как поэт, он может дышать только в своей атмосфере, но самые стихи его кристаллизуются сами, он их не строит». Некоторых сбивало последовательное неизживание образов: то смерть, а затем преображение, потом вновь смерть или сатанизм, раздражало постоянное использование уже заявленных символов. Чуковский увидел в этом символизм незыблемости, смертельного покоя:
По каким-то законам бессознательных ассоциаций, совершенно инстинктивно Сологуб всегда соединяет в одном ощущении солнечные лучи и душевную муку и […] поэтому для него было вполне естественно обозвать когда-то солнце — в порыве поэтического гнева — лютым змеем, драконом… […] Эта ненависть к солнцу, когда-то вполне искренняя и, как мы видели, вполне естественная, органически, инстинктивно возникшая у Сологуба, глубоко отразившая самую сущность его жизнеощущения — постепенно вошла у него в привычку, и теперь, какую книгу его ни раскрой, всюду видишь: «восход змия», «сияние змия»… […] И не странно ли, что точно такими же привычками у Сологуба стали и другие заветные его образы — те самые, которые так недавно волновали нас у него на страницах: Альдонса, Дульцинея, румяная бабища, Ойле, «чары», «творимая легенда» — всё это стало теперь у него почему-то обиходными, готовыми, заученными словами, — так сказать, консервами былых вдохновений. […]
Сологуб внезапно, в один прекрасный день очутился среди множества фетишей — из камня и дерева, которые когда-то были волнующими символами его душевных томлений, а теперь отболели, отстоялись, вылились в готовые формы, и стали из страданий вещами, пёстрыми стёклышками, и Сологубу остаётся только переставлять их то в том, то и ином порядке, комбинировать так или иначе, — сюда уже не вдыхает он никаких живых вдохновений! Всё остановилось, закончилось, отвердело теперь в этой странной душе… (Из статьи «Навьи чары мелкого беса», 1910)
Лев Шестов попытался взглянуть в глубины этой души с другой стороны:
Если теперь Сологуб говорит, что он не хочет ни воскресения, ни рая, — можно ли быть уверенным, что он завтра повторит то же своё утверждение или, быть может, он завтра всей душой устремится именно к воскресению и к раю и не захочет ничего из прошлого предать забвению? Не знаю, предлагал ли Сологуб себе такой вопрос. […] Сологуб не раз менял свои надежды, мечты и желания. […] Но всё же преобладает в Сологубе одна мысль: он знает, что там, где большинство людей находят своё, для него ничего нет. [Жизнь] кажется ему грубой, пошлой, лубочной. Он хочет переделать её на свой лад — вытравить из неё всё яркое, сильное, красочное. У него вкус к тихому, беззвучному, тусклому. Он боится того, что все любят, любит то, чего все боятся. Он моментами напоминает Бодлера, который предпочитал накрашенное и набелённое лицо живому румянцу и любил искусственные цветы.
Если бы нормальный человек мог быть невидимым свидетелем внутренних переживаний Сологуба, — он бы пришёл в ужас от «дел» его. Ему показалось бы, что Сологуб беспрерывно топчется на месте и не живёт, а лишь притворяется живущим, что он постоянно умирает в медленной, тягучей, бесконечной, бессмысленной агонии: «Жизнь скучной и нелепой // Надо медленно мне жить, // Не роптать на рок свирепый // И о тайном ворожить». […]
Как можно жить в этой вечной серости, которой окутал себя поэт или в которую окутала поэта жизнь? […] Зачем застыл он в оцепенении, зачем так упорно стоит он на одном месте?! […] Разве возможна жизнь без движения? А между тем если вся проза Сологуба — передоновщина, то вся его поэзия — неподвижное, хотя и страшно напряжённое созерцание одной точки. […]
Обыкновенный человек, читая Сологуба, доходит порою до бешенства. Одуряющие пары и затем загадочная неподвижность: как мог Аполлон благословить творчество? Ещё проза — куда ни шло: её можно объяснить реалистической тенденцией. Но поэзия? Откуда она, почему Сологуб мучит и волнует сердца, как своенравный чародей? Вспомним Сократа. Сологуб — оракул. Его проза не реализм, а одуряющие пары, его поэзия, как ответы Пифии — вечная и мучительная загадка. В ней есть дивная музыка, смысла которой ни ему, ни его читателям разгадать не дано. (Из статьи «Поэзия и проза Фёдора Сологуба», 1909)
Все читатели отмечали необыкновенную цельность его поэзии. «Лирическое содержание всегда цельное, всегда своё, облечено в нежную и певучую плоть — это даёт Сологубу право на первое место в современной лирике и на законное место в кругу наших больших поэтов» (Вас. Гиппиус). «В современной литературе я не знаю ничего более цельного, чем творчество Сологуба. Вместе с тем, развиваясь по верховной и прихотливой воле художника, оно совершенно чуждается каких бы то ни было схем, какой бы то ни было симметрии» (А. Блок).
Поэтический анализ стихотворений Сологуба сделал Иннокентий Анненский в статье «О современном лиризме», напечатанной в «Аполлоне» в 1909 году. В статье он отметил одну их особенность:
Лирический Сологуб любит принюхиваться, и это не каприз его, и не идиосинкразия — это глубоко связано с его болезненным желанием верить в переселение душ. […] В запахах для него и точно начало иных поэм: «Порой повеет запах странный, — // Его причины не понять, — // Давно померкший день туманный // Переживается опять…»; «Но никнут гробы, в тьме всесильной // Своих покойников храня, // И воздымают смрад могильный // В святыню праздничного дня…»; «Дышу дыханьем ранних рос, // Зарёю ландышей невинных; // Вдыхаю влажный запах длинных // Русалочьих волос…». Я, конечно, пропускаю все строки об ароматах… Я говорю только о запахе, о нюханье, т. е. о болезненной тоске человека, который осмыслил в себе бывшего зверя, и хочет, и боится им быть, и знает, что не может не быть.
* * *
За несколько месяцев перед «Пламенным кругом» в свет вышла седьмая книга стихов. То были переводы из Верлена. 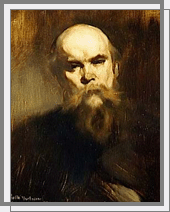 Впервые Фёдор Сологуб обратился к творчеству Поля Верлена (1844—1896) в начале 1890-х гг., тогда же появились первые публикации в журнале «Северный вестник», затем перевод «Синева небес над кровлей...» появился в первой книге стихов 1896 года. По признанию Сологуба, он «переводил Верлена, ничем внешним к тому не побуждаемый. Переводил потому, что любил его». A любил он в нём то, что представлось ему в Верлене «наиболее чистым проявлением того, что я назвал бы мистическою ирониею». Отдельную книгу составили переводы 37 стихотворений Верлена. «Выбор стихотворений, сделанный по моему личному вкусу, — предуведомляет читателя переводчик, — может показаться довольно случайным. Как и всё в жизни, подчинённой капризам своенравной Айсы. Но есть, я думаю, в этом выборе и влияние её суровой сестры, которая под пестротою случайностей вечную устанавливает свободу в её земном обличии неизбежной необходимости». Впервые Фёдор Сологуб обратился к творчеству Поля Верлена (1844—1896) в начале 1890-х гг., тогда же появились первые публикации в журнале «Северный вестник», затем перевод «Синева небес над кровлей...» появился в первой книге стихов 1896 года. По признанию Сологуба, он «переводил Верлена, ничем внешним к тому не побуждаемый. Переводил потому, что любил его». A любил он в нём то, что представлось ему в Верлене «наиболее чистым проявлением того, что я назвал бы мистическою ирониею». Отдельную книгу составили переводы 37 стихотворений Верлена. «Выбор стихотворений, сделанный по моему личному вкусу, — предуведомляет читателя переводчик, — может показаться довольно случайным. Как и всё в жизни, подчинённой капризам своенравной Айсы. Но есть, я думаю, в этом выборе и влияние её суровой сестры, которая под пестротою случайностей вечную устанавливает свободу в её земном обличии неизбежной необходимости».
Несмотря на то, на обложке стоит заглавие «Поль Верлэн. Стихи, избранные и переведённые Фёдором Сологубом», издание имеет (на шмуцтитуле) и второе название,  подчёркивающее значение, которое Сологуб придавал этим переводам в своём творчестве: «Фёдор Сологуб. Стихи. Книга седьмая. Переводы из Поля Верлена». Возможно, поэт переводил стихи Верлена из желания написать собственные стихи в том же настроении, какое он находил у Верлена и которое его неизменно очаровывало, но которое всё же не было природным для Сологуба. Ведь как поэт, Сологуб не мог писать стихи, не исходящие из его собственного мира и настроения; – атмосфера же лирики Верлена была близка его поэтическому духу. Этим можно объяснить, почему Сологуб так плодотворно работал с переводами Верлена. Более того, вслед за основным переводом, Сологуб помещал иногда до трёх вариантов перевода одного и того же стихотворения, что было непривычно для переводческой практики того времени. подчёркивающее значение, которое Сологуб придавал этим переводам в своём творчестве: «Фёдор Сологуб. Стихи. Книга седьмая. Переводы из Поля Верлена». Возможно, поэт переводил стихи Верлена из желания написать собственные стихи в том же настроении, какое он находил у Верлена и которое его неизменно очаровывало, но которое всё же не было природным для Сологуба. Ведь как поэт, Сологуб не мог писать стихи, не исходящие из его собственного мира и настроения; – атмосфера же лирики Верлена была близка его поэтическому духу. Этим можно объяснить, почему Сологуб так плодотворно работал с переводами Верлена. Более того, вслед за основным переводом, Сологуб помещал иногда до трёх вариантов перевода одного и того же стихотворения, что было непривычно для переводческой практики того времени.
Переводы стихотворения «Il pleure dans mon coeur…» (в книге представлено три варианта):
|
Слёзы в сердце моём, —
Плачет дождь за окном.
О, какая усталость
В бедном сердце моём!
Шуму проливня внемлю,
Бьёт он кровлю и землю, —
Много в сердце тоски, —
Пенью проливня внемлю.
Этих слёз не пойму, —
Не влечёт ни к чему
Уж давно моё сердце,
Что жалеть, — не пойму.
Тяжелей нет мученья, —
Без любви, без презренья,
Не понять, отчего
В сердце столько мученья.
|
Нá сердце слёзы упали,
Словно на улице дождик.
Что это, что за печали
В сердце глубоко упали?
Дождика тихие звуки,
Шум на земле и по крышам,
Сердцу в томлениях скуки
О, мелодичные звуки!
Слёзы твои без причины,
Сердце, — ведь ты же боролось
С непостоянством судьбины!
Траур надет без причины.
Вряд ли есть худшее горе:
Даже не знать, отчего же,
Не примиряясь, не споря,
Сердце исполнено горя.
|
На подобную концепцию издания переводов сочувственно отозвался Юрий Верховский: «Особенно поучительны переводы, дающие в двух или трёх вариантах одну и ту же пьесу. Иногда несколько вариантов и художественно равноценны и одинаково нужны: черта, случайно ослабленная в одном, оттеняется другим» («Речь», 29 февраля 1908). Максимилиан Волошин в своей рецензии назвал переводы из Поля Верлена «осуществлённым чудом». «Ему удалось, — пишет он, — осуществить то, что казалось невозможным и немыслимым: передать в русском стихе голос Верлена… Верлен становится русским поэтом».
В 1923 году вышло второе издание переводов из Верлена. В него были включены новые переводы стихотворений из «католической» книги Верлена «Мудрость»; больше половины всех переводов подверглись тогда новой правке (зачастую, это были совершенно новые переводы). В 1991 году В. Е. Багно опубликовал три неизвестных ранее перевода стихотворений Верлена в сборнике «На рубеже XIX и XX веков». Всех, кто интересуется процессом переводов, их историей, анализом, критикой, — адресуем к замечательной статье Багно «Фёдор Сологуб — переводчик французских символистов» в вышеуказанном сборнике.
Для Сологуба-поэта переводы, в отличие от Бальмонта и Брюсова, не были полноправными участниками творчества (за исключением Верлена). Для себя Сологуб обычно переводил лишь занявшее его по какой-то причине стихотворение (например, из Леконт де Лиля, Рюккерта, Новалиса, Метерлинка), при этом, у него сохранялся стабильный интерес к таким малопереводимым тогда поэтам как Виктор Гюго, Артюр Рембо и Стефан Маллармe. Последние два поэта особо привлекали Сологуба своими «стихотворениями в прозе», — не случайно он брался также переводить подобные произведения Шарля Бодлера и Оскара Уайльда.
Правда бóльшая часть переводов так и не увидела свет при жизни Сологуба. «Мало-мальски сносный перевод — дело случая более, чем желания, и вообще страшно труден для меня» — писал Сологуб в письме к Л. Вилькиной в 1902 году, тем самым отгораживаясь от работы над возможными заказами от издательств — специально переводить, связывать себя договорами — было чуждо Сологубу, ведь требовалось совершенно входить в настроение чужого поэта, настраивать свой язык под строки оригинала.
И тем не менее, переводы, выполненные по эпизодическим заказам издательств (повести «Четыре беса», «Её высочество» Германа Банга, роман «Кандид» Вольтера, роман «Сильна как смерть» и стихи Ги де Мопассана, стихи Оскара Уайльда, пьесы Генриха фон Клейста, стихи армянских и еврейских поэтов, «Озорные сказки» Оноре де Бальзака, роман «Дважды любимая» Анри де Ренье, стихи немецких экспрессионистов, «Кобзарь» Тараса Шевченко), были высочайшего качества, что позволило им пережить десятки лет, — переводы Сологуба до сих пор включаются в издания Уайльда, Вольтера, Верлена, Рембо и других авторов.

XI
ТЕАТР ОДНОЙ ВОЛИ
Драматургия Сологуба и его представление театра — Кинематограф
(1906—1912)
 БРАЩЕНИЕ РУССКИХ МОДЕРНИСТОВ к театру произошло одновременно, в середине 1900-х годов: одна за другой появились пьесы и драматургические статьи Л. Андреева, В. Брюсова, В. Иванова, А. Ремизова, А. Блока, В. Мейерхольда и Фёдора Сологуба. Велико было влияние, которое на них всех оказали работы европейских драматургов Г. Ибсена, М. Метерлинка, Гауптмана и Г. Гофмансталя, но ещё большим было взаимное воздействие русских символистов друг на друга. БРАЩЕНИЕ РУССКИХ МОДЕРНИСТОВ к театру произошло одновременно, в середине 1900-х годов: одна за другой появились пьесы и драматургические статьи Л. Андреева, В. Брюсова, В. Иванова, А. Ремизова, А. Блока, В. Мейерхольда и Фёдора Сологуба. Велико было влияние, которое на них всех оказали работы европейских драматургов Г. Ибсена, М. Метерлинка, Гауптмана и Г. Гофмансталя, но ещё большим было взаимное воздействие русских символистов друг на друга.
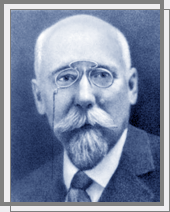 В творчестве Сологуба драматургии отведено было преобладающее место в 1907—1910 гг. Его драмы в большей степени чем художественная проза находились под влиянием его философских воззрениий, и первым драматическим опытом стала мистерия «Литургия Мне» (1906), философская поэма, проникнутая идеями претворения воли, которой наделены те, кто любят — те, кто достигнут желаемого любыми путями: через смерть, через моральные принципы. Любовь, объединённая со смертью, творит чудо в ранней пьесе Сологуба «Дар мудрых пчёл» (1906), написанной по мотивам античного мифа о Лаодамии и Протесилае (несколько ранее аналогичный сюжет был использован И. Анненским). Трагедия не планировалась для сцены, автор ограничился лишь чтением пьесы в салоне Вячеслава Иванова и в театре Комиссаржевской. «Мертвенным совершенством веет от трагедии Сологуба, — писал свидетель чтения М. Волошин. — Законченность, тяжёлое богатство и значительность речи приводят на память золотые лепестки погребальных венцов и золотые маски, найденные на таинственных трупах в гробницах Микенских… Кому, как не Сологубу, знать тайны области невозвратного, тайны царства Аидова…?». В трагедии «Победа Смерти» (1907) любовь используется как инструмент «волшебной» воли (Сологуб взял за основу легенду о происхождении Карла Великого). В черновом варианте трагедия носила название «Победа Любви», — в изменении полюсов противоположностей Сологуб видел отнюдь не обострение антагонизма, а внутреннюю тождественность, и нередко менялись полюса в его произведениях («Любовь и Смерть – одно», — звучат финальные слова в пьесе). Эта тождественность противоположностей была блестяще воспроизведена в гротескной пьесе «Ванька-ключник и паж Жеан» (1908; премьера в театре Коммисаржевской в постановке Н. Н. Евреинова). В творчестве Сологуба драматургии отведено было преобладающее место в 1907—1910 гг. Его драмы в большей степени чем художественная проза находились под влиянием его философских воззрениий, и первым драматическим опытом стала мистерия «Литургия Мне» (1906), философская поэма, проникнутая идеями претворения воли, которой наделены те, кто любят — те, кто достигнут желаемого любыми путями: через смерть, через моральные принципы. Любовь, объединённая со смертью, творит чудо в ранней пьесе Сологуба «Дар мудрых пчёл» (1906), написанной по мотивам античного мифа о Лаодамии и Протесилае (несколько ранее аналогичный сюжет был использован И. Анненским). Трагедия не планировалась для сцены, автор ограничился лишь чтением пьесы в салоне Вячеслава Иванова и в театре Комиссаржевской. «Мертвенным совершенством веет от трагедии Сологуба, — писал свидетель чтения М. Волошин. — Законченность, тяжёлое богатство и значительность речи приводят на память золотые лепестки погребальных венцов и золотые маски, найденные на таинственных трупах в гробницах Микенских… Кому, как не Сологубу, знать тайны области невозвратного, тайны царства Аидова…?». В трагедии «Победа Смерти» (1907) любовь используется как инструмент «волшебной» воли (Сологуб взял за основу легенду о происхождении Карла Великого). В черновом варианте трагедия носила название «Победа Любви», — в изменении полюсов противоположностей Сологуб видел отнюдь не обострение антагонизма, а внутреннюю тождественность, и нередко менялись полюса в его произведениях («Любовь и Смерть – одно», — звучат финальные слова в пьесе). Эта тождественность противоположностей была блестяще воспроизведена в гротескной пьесе «Ванька-ключник и паж Жеан» (1908; премьера в театре Коммисаржевской в постановке Н. Н. Евреинова).  Cтарорусский сюжет о Ваньке-ключнике одновременно развивался в двух мирах: кондово-русском и утончённо-европейском. Схожим образом для сцены была переработана другая русская народная сказка — «Ночные пляски». Премьера пьесы в постановке Н. Евреинова состоялась 9 марта 1909 года в Литейном театре в Санкт-Петербурге; роли исполнили не профессиональные актёры, а поэты, писатели и художники: С. М. Городецкий, Л. С. Бакст, И. Я. Билибин, М. Волошин, О. И. Дымов, Б. М. Кустодиев, А. М. Ремизов, Н. Гумилёв, П. Потёмкин, М. Кузмин, С. Ауслендер и др. Cтарорусский сюжет о Ваньке-ключнике одновременно развивался в двух мирах: кондово-русском и утончённо-европейском. Схожим образом для сцены была переработана другая русская народная сказка — «Ночные пляски». Премьера пьесы в постановке Н. Евреинова состоялась 9 марта 1909 года в Литейном театре в Санкт-Петербурге; роли исполнили не профессиональные актёры, а поэты, писатели и художники: С. М. Городецкий, Л. С. Бакст, И. Я. Билибин, М. Волошин, О. И. Дымов, Б. М. Кустодиев, А. М. Ремизов, Н. Гумилёв, П. Потёмкин, М. Кузмин, С. Ауслендер и др.
В последующих драматических работах преобладали сюжеты из современной жизни. Коротенькая современная драма в двух действиях «Любви» затронула скользкую тему инцеста: неотцовскую любовь отца к своей дочери. Сюжет был рискованным, и Сологуб в поздней публикации смягчил общий смысл, изменив финальную сцену. В 1909 году Сологуб обратился к своему собственному роману — «Мелкий бес», — к тому времени безоговорочно признанным шедевром, — и переработал его в трагедию в пяти действиях, решённую в строго реалистическом ключе. Пьесу мгновенно поставили в театрах Петербурга, Киева, Москвы и др. российских городов. Сологуб сам осенью 1909 года ездил в Киев в театр «Соловцов» и в Москву к Незлобину, чтобы лично увидеть процесс подготовки спектаклей. В трагедии Передонов обрисован более человечно, Сологуб менее всего хотел негодования и сатиры, желая вызвать «потайное сочувствие к слабому и несчастному Передонову, чтобы каждый пришедший в ceбе почувстсвовав хоть частицу передоновщины, сжалился бы над ним и никого не обвинил въ передоновщине, — пояснял в интервью того же года автор. — Подъ знакомъ сочувствия должна быть и другия действующия лица, чтобы каждая женщина могла понять и почувствовать, что она — въ худших своихъ возможностях — Варвара, в Лучшихь —Людмила».
В 1912 году, в рамках празднования 100-летия Отечественной войны, Фёдор Сологуб осуществил первую драматическую переработку романа Льва Толстого «Война и мир». «Мне кажется, — писал Сологуб в письме А. Измайлову, — что такие великие произведения, как «Война и Мир», «Братья Карамазовы» и прочие должны быть источниками нового творчества, как древние мифы были материалом для трагедии. Если могут быть романы и драмы из жизни исторических деятелей, то могут быть романы и драмы о Раскольникове, о Евгении Онегине и о всех этих, которые так близки к нам, что мы порою можем рассказать о них и такие подробности, которых не имел в виду их создатель». Однако до зрителя произведение так и не дошло: переговоры с Литературно-театральным Комитетом, определявшим репертуар императорских театров, ни к чему не привели. С большим трудом удалось провести на сцену другую пьесу Сологуба — «Заложники жизни», премьера которой состоялась 6 ноября 1912 в Александринском театре, — спустя два года после первого публичного чтения драмы. Герои драмы, страстно и взаимно влюбленные Катя и Михаил, мечтают строить новую, свободную жизнь, но через пять лет решают, что Катя выйдет замуж за богатого, но нелюбимого, а Михаил пока будет жить с таинственной и загадочной Лилией (Лилит - как она себя называет), хотя он её не любит, и она это знает; в конце пьесы, через десять лет Катя и Михаил — удачливый инженер-строитель — покидают своих временных сожителей и соединяются, когда это стало возможно уже на ином, более высоком уровне материального благосостояния. Носительницей жизни «в мечте», на самом деле в мире обывательщины и приспособленчества является в драме Сологуба Лиля — она же Лилит.
«Заложники жизни» стали объектом статьи Д. С. Мережковского, принявшим большое участие в судьбе постановки (он был единственным, кто поддержал пьесу в Петербургском литературно-театральном комитете). В статье «Осёл и розы» Мережковский писал о персонажах этой драмы: «Обыкновенная житейская мораль — почтеннее, святее, благороднее неопределённой, бессильной, от жизни уходящей мечты... Житейская мораль к подлинной мечте-вере, воплощающей, революционно ломающей жизни, — ближе, чем бесплодная, стародевическая мечта одиноких отшельников-романтиков». Обвиняя нововременских авторов в лицемерии по поводу успеха драмы Сологуба «Заложники жизни» и «лавров», которыми его «венчали», Мережковский продолжал: «Я знаю, как съедят лавры, точно так же в Апулеевом «Осле» милое серое животное съело розы. Но не уколят ли острые шипы мягких губ?» И далее он повторяет уже как утверждение, а не предположение, что «мечта», о которой говорит одна из героинь Сологуба — Лилит, — это мнимость: «Я видел много милых, беспомощных человеческих лиц, опьянённых мечтой, благоуханием Лилитовой розы. Но мне было и жалко этих бедных людей, и досадно на них: не замечают, что розы, к которым они прильнули так жадно, уже ослиным ртом изжёваны». Первая постановка символистской пьесы на сцене императорского театра была воспринята и истолкована как триумф модернизма. В прессе, однако, преобладали отрицательные оценки и пьесы и спектакля.
Сологуб также написал несколько драм в соавторстве с Анастасией Чеботаревсковкой — «Мечта-победительница» (1912), «Любовь над безднами» (1914) и «Камень, брошенный в воду» (1915).
В целом, драмы Сологуба шли в театрах редко, и в большинстве своём то были неумелые постановки. Почему же, — задумывался Сологуб, — его пьесы, или пьесы других символистов (Блока, Ремизова, Иванова, Метерлинка) не хотели ставить? Оттого, что не сценичны, слишком «литературны», не интересны публике? Нет, «мы уже знаем, — отвечает Сологуб в статье «Нет пьес», — что несценичные пьесы нередко ставились, и порою даже с успехом. Современный театр так могуществен, что он может поставить всё, что захочет, даже роман, даже лирическое стихотворение». Причина тут в другом: «рутина, привычка актёров играть то, что они теперь играют, привычка режиссёров ставить то, что они теперь ставят, привычка распорядителей театрального дела принимать то, что они теперь принимают, и всё это потому только, что так ставили пьесы и так играли их и такие пьесы принимали вчера и третьего дня».
Сологуб, как теоретик театра, разделял идеи Вяч. Иванова, В. Э. Мейерхольда и Н. Евреинова («переносить самого зрителя на сцену» определил Евреинов задачей монодрамы в брошюре «Введение в монодраму»). 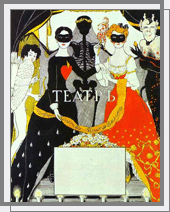 Как и В. Иванов, Сологуб также мечтал о Театре-храме, театре, где сцена не была собственно сценой каких-то, пусть даже самых талантливых, актёров, а была единым с залом пространством, «где рампа будет уничтожеиа, где будет единое доровое соборное действо», где драма настолько захватит зрителя, что он вовлечётся не в действие, — а в атмосферу мечты, — самого главного элемента творчества и воли. В развёрнутом виде свои взгляды на театр Сологуб изложил в эссе «Театр одной воли» (сб. «Театр», 1908) и заметке «Вечер Гофмансталя» (1907). В начале 1910-х гг. Сологуб начал сотрудничество с журналом «Театр и искусство», на страницах которого одна за другой появлялись статьи, развивашие в парадоксальной форме эстетические принципы их автора. Нередко эти статьи сопровождались преуведомлениями, что редакция «не разделяет взглядов г. Сологуба, но тем не менее…». Как и В. Иванов, Сологуб также мечтал о Театре-храме, театре, где сцена не была собственно сценой каких-то, пусть даже самых талантливых, актёров, а была единым с залом пространством, «где рампа будет уничтожеиа, где будет единое доровое соборное действо», где драма настолько захватит зрителя, что он вовлечётся не в действие, — а в атмосферу мечты, — самого главного элемента творчества и воли. В развёрнутом виде свои взгляды на театр Сологуб изложил в эссе «Театр одной воли» (сб. «Театр», 1908) и заметке «Вечер Гофмансталя» (1907). В начале 1910-х гг. Сологуб начал сотрудничество с журналом «Театр и искусство», на страницах которого одна за другой появлялись статьи, развивашие в парадоксальной форме эстетические принципы их автора. Нередко эти статьи сопровождались преуведомлениями, что редакция «не разделяет взглядов г. Сологуба, но тем не менее…».
Театр, — по мнению Фёдора Сологуба, — единственный вид искусства, где Воля наиболее должна быть напряжена и ярко выражена, ибо в каждом устройстве спектакля приходится преодолевать путь до зрителя сквозь множество людей — режиссёра, художника, актёров, которые зачастую вовсе не думают об эстетической идее автора. Ведь вообще наличие «выгодных ролей», «видных актёров» портит театр, так как актёры, ничем не принуждамые играют, что им удобно, что им привычно. Пусть они глубоко входят в образ — всё равно — Сологубу-драматургу реализм игры актёра, его талант, его «блеск» видится самыми худшими чертами современного театра. Актёр, заслоняя собою авторский замысел, воздействует на зрителя по своему произволу. Да и вообще само стремление актёра переживать доподлинно драму казалось Сологубу противоестесственным.
Это стремление к правде, — пишет Сологуб в одной из статей, — выливается в формы, которые не представляются мне полезными для театра. Театр разучивается идти путями строгого искусства, и устремляется на пути нутра, талантливости, переживаний, настроений.
Если русский актёр хочет рассмешить, он сам смеётся; захочет ли растрогать, — заплачет сам. Он добросовестно думает, что именно этого-то и требует от него эмоциональная основа искусства. Актёру кажется, что созданная автором художественная форма сама по себе неубедительна, и что на актёре, лежит обязанность оживить её не только своим искусством, — что было бы правильно и достаточно, — но и своими переживаниями, что неправильно и излишне.
Излишне это потому, что драма убедительна и действенна сама по себе, не тем убедительна и действенна, что мы верим в реальную действительность образов драмы, а тем, что художественная правда (не житейская) образа не может не вызвать того волнения, на которое рассчитан этот образ. Неправильно давать на сцене переживания потому, что это очень обедняет сцену, заставляя актёра быть всегда правдиво переживающим, то есть быть всегда самим собою, тогда как искусство требует не этого: оно требует преодоления себя в способности сочувствовать. Искусство требует не переживаний, а сопереживаний, и этим-то постоянным стремлением к сопереживанию оно и расширяет нашу душу до полноты вселенского самосознания
Актёр, переживающий роль, хочет, чтобы его переживания заметил и оценил зритель; такому актёру дорога не пьеса, а только его роль, в которой он хочет выдвинуться.
Пьеса раздёргивается по ролям, и потому искажается. И так делается даже в лучших театрах.
Итак, актёр, должен быть лишь точным передатчиком воли автора! Что ж, не играть тогда? читать по страницам весь авторский текст пьесы? Хотя бы и так, — отвечает Сологуб. Может, и вообще убрать актёров, оставить одного чтеца? Наверное, это было бы лучшим, — бесстрастно соглашается Сологуб. Что же, может и зрителей наполовину поубавить, или весь зал, чтобы меньше было отвлечения? Да. Пусть это будет спектакль одного автора разыгранный актёром (которому, при его таланте, будут одновременно понятны все веяния пьесы), для одного зрителя, для которого уже не будет разделения на сцену и зал: он будет в драме, всецело сопереживая ей. Интимный театр!
Но и всеобщий! «Театр высокого искусства только тогда соберёт в своих стенах толпу, — пишет Сологуб в статье «Вечер Гофмансталя», — когда он захватит зрителя в страстное кружение своего пламенного восторга. Когда зритель перестанет быть только зрителем. Когда он станет участником действия. А для этого действие на сцене должно перестать быть зрелищем, должно стать мистериею». Сологуб подводит мысль к идее театра-храма, в котором совершаются службы.
Бытовые, реалистичные пьески, фарсы не нужны настоящему театру — они не приглашают человека к единственно стоящей цели театра — не зовут к мечте, не приводят к неизведанной стране желаемого. Трагедия же является наиболее выраженным типом мистериии, и ставить её следует очень искусно. «И потому не должно быть на сцене игры. Только ровная передача слово за словом. Спокойное воспроизведение положений, картина за картиною. И чем меньше этих картин, чем медленнее сменяются они, тем яснее выступает перед очарованным зрителем трагический замысел. Пусть не старается и не ломается трагический актёр, — чрезмерность жеста и напыщенность декламации приходится оставить на долю шута и скомороха. Актёр должен быть холоден и спокоен, каждое слово его должно звучать ровно и глубоко, каждое движение его должно быть медленно и красиво. Трагическое представление не должно напоминать мелькание картин в кинематографе. И без этого мелькания, досадного и ненужного, очень длинный путь к пониманию трагедии должен пройти внимательный зритель».
Что касается кинематографа, бывшего в то время лишь новым аттракционом, то в нём Сологубу виделось мощное средство воздействия искусства. «Значение кинематографа в наше время следует признать положительным, — говорил Сологуб в интервью 1913 года. —Кинематограф подымает в массе интерес к искусству и в конечном итоге приблизит массу к театру. Кинематограф втягивает человека в область зрительных эмоций, и бояться вреда от кинематографа ни в коем случае не приходится». И действительно, с середины 10-х гг. стремительно развивавшееся русское кино зануждалось в новых формах и темах, выходивших за рамки краткоминутного зрелища, и в поиске таковых продюссеры обратились к русским модернистам. С 1916 года с Сологубом велись переговоры о постановке фильмов на сюжет его произведений. Итогом стали вышедшие летом 1917 года два фильма: «Лик зверя» и «Слаще яда» — первый по повести «Звериный быт», второй по роману 1912 года. Фильмы вышли, по словам рецензентов, слабыми и неадекватными первоисточникам. В то время не успел развиться художественный язык для символистских картин, и все подобные фильмы вызывали разочарование: всё выходило либо грубо, либо наивно. Правда, надежды возлагались на фильм «Навьи чары» в постановке Мейерхольда, прекрасно знакомого с творчеством символистов. Фильм готовился в течение года, но так и остался незаконченным в силу общественных событий второй половины 1917 года. В дальнейшем контакты между Сологубом и кинопродюсерами продолжались, писателем были написаны собственные киносценарии, но ни один из тех проектов осуществлён не был.

XII
АНАСТАСИЯ ЧЕБОТАРЕВСКАЯ
Смерть сестры и отставка — Знакомство и сотрудничество с Ан. Н. Чеботаревской
(1907—1911)
 НАКОМСТВО С АН. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ развивалось в переломный для Сологуба 1907 год, в течение которого вышли «Мелкий бес», «Истлевающие личины», «Змий», «Литургия Мне», «Навьи чары» — произведения, получившие широкое освещение в критике и привлёкшие, наконец, внимание публики к писателю, чей талант был к тому времени всесторонне представлен в творчестве (романы, шесть книг стихов, сказочки, десятки рассказов, переводы, статьи по педагогике, искусству, политике, наконец, пьесы). В личной жизни писателя также произошли перемены. 28 июня умерла горячо любимая сестра. Наследственная болезнь уже давно стала обнаруживать свои грозные признаки. Летом предыдущего года Фёдор Кузьмич с сестрой ездили в Уфимскую губернию, на кумыс, для лечения. Но ничто не помогало. В мае 1907 года была предпринята ещё одна поездка, в Финляндию, где и наступила смерть. НАКОМСТВО С АН. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ развивалось в переломный для Сологуба 1907 год, в течение которого вышли «Мелкий бес», «Истлевающие личины», «Змий», «Литургия Мне», «Навьи чары» — произведения, получившие широкое освещение в критике и привлёкшие, наконец, внимание публики к писателю, чей талант был к тому времени всесторонне представлен в творчестве (романы, шесть книг стихов, сказочки, десятки рассказов, переводы, статьи по педагогике, искусству, политике, наконец, пьесы). В личной жизни писателя также произошли перемены. 28 июня умерла горячо любимая сестра. Наследственная болезнь уже давно стала обнаруживать свои грозные признаки. Летом предыдущего года Фёдор Кузьмич с сестрой ездили в Уфимскую губернию, на кумыс, для лечения. Но ничто не помогало. В мае 1907 года была предпринята ещё одна поездка, в Финляндию, где и наступила смерть.
Смерть моей сестры для меня великая печаль, не хотящая знать утешения. Мы прожили всю жизнь вместе, дружно, и теперь я чувствую себя так, как будто все мои соответствия с внешним миром умерли… (из письма от 8 июля 1907 года В. Брюсову)
В те же тяжёлые дни начальство уведомило Фёдора Кузьмича, что на службе его не оставит — пришла пора выхода в отставку после 25 лет  службы, но Сологуб думал продолжить работу, тем более что ему полагалась выплата за столь долгий срок государственной службы. Однако отставка была принята полная, начальство, пользуясь моментом, свело счёты с слишком уже заметным и прогрессивным писателем. 1 июля Сологуб официально вышел в отставку в чине надворного советника (за время службы был пожалован двумя орденами — Св. Станислава третьей степени в 1896 и Св. Анны третьей степени в 1901). Пришлось срочно съезжать с казённой квартиры, искать частную. В конце июля Сологуб обосновался в одной из отдалённых улиц на Петербургской Стороне. Отныне Фёдор Сологуб зарабатывал на жизнь исключительно литературой. службы, но Сологуб думал продолжить работу, тем более что ему полагалась выплата за столь долгий срок государственной службы. Однако отставка была принята полная, начальство, пользуясь моментом, свело счёты с слишком уже заметным и прогрессивным писателем. 1 июля Сологуб официально вышел в отставку в чине надворного советника (за время службы был пожалован двумя орденами — Св. Станислава третьей степени в 1896 и Св. Анны третьей степени в 1901). Пришлось срочно съезжать с казённой квартиры, искать частную. В конце июля Сологуб обосновался в одной из отдалённых улиц на Петербургской Стороне. Отныне Фёдор Сологуб зарабатывал на жизнь исключительно литературой.
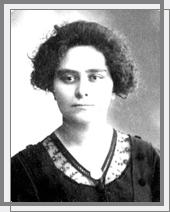 На этом, полном разнообразных событий, фоне развивались отношения с Анастасиею Николаевной Чеботаревской. Самое ранее, поверхностное, знакомство их состоялось ещё осенью 1905 года у Вячеслава Иванова. Тогда 28-летняя переводчица переехала в Санкт-Петербург из Москвы, до того проучившись четыре года во французских высших учебных заведениях. В последующие годы они мельком видятся, Анастасия Николаевна появляется, наконец, на «воскресеньях» у Сологуба на Васильевском Острове. Весной 1907 года между ними завязалась деловая переписка, осенью переросшая во взаимный интерес друг к другу. Толчком к переписке послужило обращение Чеботаревской к Сологубу с просьбой дать свою краткую биографию для задуманного ею справочника «Краткие автобиографические данные русских писателей за последнее 25-летие русской литературы». На просьбу Сологуб откликнулся следующим письмом от 25 мая 1907 года: На этом, полном разнообразных событий, фоне развивались отношения с Анастасиею Николаевной Чеботаревской. Самое ранее, поверхностное, знакомство их состоялось ещё осенью 1905 года у Вячеслава Иванова. Тогда 28-летняя переводчица переехала в Санкт-Петербург из Москвы, до того проучившись четыре года во французских высших учебных заведениях. В последующие годы они мельком видятся, Анастасия Николаевна появляется, наконец, на «воскресеньях» у Сологуба на Васильевском Острове. Весной 1907 года между ними завязалась деловая переписка, осенью переросшая во взаимный интерес друг к другу. Толчком к переписке послужило обращение Чеботаревской к Сологубу с просьбой дать свою краткую биографию для задуманного ею справочника «Краткие автобиографические данные русских писателей за последнее 25-летие русской литературы». На просьбу Сологуб откликнулся следующим письмом от 25 мая 1907 года:
Многоуважаемая Анастасия Николаевна,
Простите, что так поздно отвечаю на Ваше письмо. И времени не было вовсе, и вообще плохо всё складывалось. Сведения могу сообщить только следующие: Родился в 1863 г. в СПб. Этого и довольно. Биография моя никому не нужна. Это видно хотя бы из того, что даже и Вы, хотя и работаете для истории литературы, всё же никогда не поинтересовались даже моим именем. «Ф. К. Соллогуб», как Вы пишете, я никогда не именовался, потому что я не принадлежу к роду Соллогубов, и моя фамилия Тетерников. Литературный же мой псевдоним состоит из 14 букв, не более и не менее: Федоръ Сологубъ, с одною буквою Л, а не с двумя; не просто Сологуб, и не Фёдор Кузьмич Сологуб (такого нет и не было), а именно Фёдор Сологуб…
Отказ давать биографические сведения был характерной позицией автора многие годы. Анастасия Чеботаревская не издала задуманной книги, но позднее, в 1914 году, подготовила обстоятельную биографию Сологуба для библио-биографического справочника профессора Венгерова (это единственная своего рода «авторизованная» биография писателя).
Вернувшись после летнего отдыха в Финляндии в августе следующего 1908 года, Сологуб переезжает на новую квартиру, в Гродненский переулок у Кирочной улицы. К нему переезжает и Анастасия Чеботаревская, ставшая через месяц его женой (официальное же венчание состоялось в сентябре 1915 года). Близко восприняв творчество Сологуба, Чеботаревская не ограничилась статьями о писателе, а стала также вникать во все литературные связи мужа, стараясь укрепить их, стала, можно сказать, его литагентом. Известность автора «Мелкого беса» и «Пламенного круга» уже тогда была несомненной, но Анастасии Николаевне хотелось, чтобы Фёдор Сологуб занимал подобающее его таланту место в культурном мире России, чтобы его творчество могло охватить каждого. Сама, будучи экзальтированной, энергичной, постоянно что-то организовывающей, полной идей и — обладая неуравновешенной психикой, — Чеботаревская взяла нехарактерную для самого Сологуба тщательную заботу о его имени как писателя, старательно отстаивая его права по любому поводу.  «В своих симпатиях и антипатиях она оставалась всегда себе верной. Периодическое издание, на страницах коего кто-либо осмеливался когда-нибудь хотя бы чуть неодобрительно отозваться о Сологубе, никогда уже не могло рассчитывать, при наличии данного редактора, на сотрудничество Сологуба. Она за этим следила зорко» (слова Игоря Северянина). Такая категоричность вызывала в свою очередь неприязнь у некоторых знакомых Сологуба, другим было подозрительно её творческое сотрудничество с писателем. «Как будто бы, — писал после смерти жены Сологуб, — люди не потому сходятся, что духовно близки один другому, а потому только и близки, что случайно сошлись! Но уж так устроена была страстная душа Анастасии Николаевны, что она ни в чём не знала середины и предавалась совершенно и до конца. Она гораздо больше меня самого радовалась каждому моему успеху и непомерно огорчалась выпадавшими на мою долю многочисленными неприятностями». «В своих симпатиях и антипатиях она оставалась всегда себе верной. Периодическое издание, на страницах коего кто-либо осмеливался когда-нибудь хотя бы чуть неодобрительно отозваться о Сологубе, никогда уже не могло рассчитывать, при наличии данного редактора, на сотрудничество Сологуба. Она за этим следила зорко» (слова Игоря Северянина). Такая категоричность вызывала в свою очередь неприязнь у некоторых знакомых Сологуба, другим было подозрительно её творческое сотрудничество с писателем. «Как будто бы, — писал после смерти жены Сологуб, — люди не потому сходятся, что духовно близки один другому, а потому только и близки, что случайно сошлись! Но уж так устроена была страстная душа Анастасии Николаевны, что она ни в чём не знала середины и предавалась совершенно и до конца. Она гораздо больше меня самого радовалась каждому моему успеху и непомерно огорчалась выпадавшими на мою долю многочисленными неприятностями».
Самая обстановка квартиры Сологуба сразу же стала претерпевать радикальные изменения. «Вчера […] была у Насти — пишет в письме 8 сентября 1908 года одна из сестёр Анастасии Николаевны. — Настя, конечно, его обрабатывает в своём стиле, заставляет продавать старомодную красную бархатную мебель и покупать «ампир, виё-роз» и т. д., но он всеми силами держится и борется за это своё старьё, с чем он прожил добрую половину жизни». Начавшиеся благодаря её стараниям «премьеры, венки, цветы, ужины на много персон, многолюдные вечерние собрания и даже домашние маскарады, видимо забавляли Фёдора Кузьмича, никогда этого не испытавшего, но потом надоели» (К. Эрберг).
Упоминавшееся выше творческое сотрудничество Чеботаревской с Фёдором Сологубом выразилось в написании нескольких совместных рассказов, статей и пьес, — рассказы «Старый Дом» и «Путь в Дамаск», пьесы «Любовь над безднами», «Мечта-победительница» и «Камень, брошенный в воду». 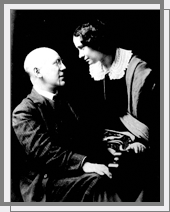 Рассказ «Холодный сочельник» вообще принадлежит перу исключительно одной Чеботаревской, хотя вышел под именем Ф. Сологуба. По конспектам и сочинениям Сологуба Чеботаревская подготавливала и писала для него лекции, составляла статьи. Иногда её собственные статьи в газетах подписывались именем Фёдора Сологуба — так их более охотно публиковали и больше, соответственно, платили. Делалось это, конечно, с санкции самого Сологуба, таким образом визировавшего идеи жены, которая в свою очередь пыталась влиться в творческую систему Сологуба. Однако её статьи легко узнать по манере изложения и темам (как правило, её статьи посвящены общественным деятелям, взаимоотношениям в литературном мире, бытовым вопросам; ею также написаны зарисовки о русской провинции); рассказы её зачастую отмечены сентиментальностью, столь несвойственной Сологубу. Рассказ «Холодный сочельник» вообще принадлежит перу исключительно одной Чеботаревской, хотя вышел под именем Ф. Сологуба. По конспектам и сочинениям Сологуба Чеботаревская подготавливала и писала для него лекции, составляла статьи. Иногда её собственные статьи в газетах подписывались именем Фёдора Сологуба — так их более охотно публиковали и больше, соответственно, платили. Делалось это, конечно, с санкции самого Сологуба, таким образом визировавшего идеи жены, которая в свою очередь пыталась влиться в творческую систему Сологуба. Однако её статьи легко узнать по манере изложения и темам (как правило, её статьи посвящены общественным деятелям, взаимоотношениям в литературном мире, бытовым вопросам; ею также написаны зарисовки о русской провинции); рассказы её зачастую отмечены сентиментальностью, столь несвойственной Сологубу.
Имя же самой Ан. Н. Чеботаревской нередко стояло на книгах-переводах французских писателей — Г. Мопассана, М. Метерлинка, Стендаля, Р. Роллана и др. Ею также были составлены антологии «Думы и песни» (1911), 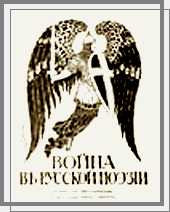 «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века» (1913), «Война в русской поэзии» (1915), «Россия в родных песнях» (1915); последней её работой стала книга «Женщина накануне Революции 1789 года» (1922). В 1909—1914 гг. Чеботаревская привлекла и Сологуба к множеству переводческих заказов. Вместе они перевели пьесу Эдварда Штуккена «Гаван», пьесы Генриха фон Клейста «Пентезилея» и «Разбитый кувшин», декадентский роман «Астарта (Господин де Фокас)» Ж. Лоррена, Поля Клоделя, Шатобриана. Благодаря участию сестёр Чеботаревских в подготовке многотомного Собрания сочинений Ги де Мопассана, Фёдор Сологуб перевёл его роман «Сильна как смерть» и написал вводную заметку «Смертный лик Мопассана» (1909). «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века» (1913), «Война в русской поэзии» (1915), «Россия в родных песнях» (1915); последней её работой стала книга «Женщина накануне Революции 1789 года» (1922). В 1909—1914 гг. Чеботаревская привлекла и Сологуба к множеству переводческих заказов. Вместе они перевели пьесу Эдварда Штуккена «Гаван», пьесы Генриха фон Клейста «Пентезилея» и «Разбитый кувшин», декадентский роман «Астарта (Господин де Фокас)» Ж. Лоррена, Поля Клоделя, Шатобриана. Благодаря участию сестёр Чеботаревских в подготовке многотомного Собрания сочинений Ги де Мопассана, Фёдор Сологуб перевёл его роман «Сильна как смерть» и написал вводную заметку «Смертный лик Мопассана» (1909).
Летом 1911 года вышла составленная Чеботаревской книга «О Фёдоре Сологубе. Критика, статьи и заметки». В книге собрано более тридцати работ известных писателей и критиков: Иванова-Разумника, К. Чуковского, Л. Шестова, З. Гиппиус, А. Белого, И. Анненского, А. Измайлова, М. Волошина и многих других, в том числе Ан. Чеботаревской (ей принадлежат три статьи). Издание ценно тем, что позволяет познакомиться с наиболее интересными взглядами современников на творчество Фёдора Сологуба (в 2002 году эта книга вышла в изд-ве «Навьи чары»).

XIII
ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА
«Творимая легенда» — «Слаще яда» — Собрания сочинений
(1907—1914)
 СТЕТИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ Сологуба, последовательно обоснованные в эссе «Я. Книга совершенного самоутверждекния» (1906), «Человек человеку — дьявол» (1906) и «Демоны поэтов» (1907), составились, наконец, в мощную и богатую символику «творимой легенды». СТЕТИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ Сологуба, последовательно обоснованные в эссе «Я. Книга совершенного самоутверждекния» (1906), «Человек человеку — дьявол» (1906) и «Демоны поэтов» (1907), составились, наконец, в мощную и богатую символику «творимой легенды».
В статье «Демоны поэтов» и предисловии к переводам Поля Верлена Фёдор Сологуб вскрывает два полюса, определяющих всю поэзию: лирический и иронический; в чистом виде, может, и нет поэтов лирических или иронических, — но все тяготеют к таковым полюсам. Следует оговориться, что Сологуб придаёт лирике и иронии своё значение, употребляемое только в его контексте. Лирика уводит нас от постылой действительности, ирония нас с ней примиряет. Но и то и другое стоит усилий неземных.
Один полюс — лирическое забвение данного мираотрицание его скудных и скучных двух берегов, вечно текущей обыденности, и вечно возвращающейся ежедневности, вечное стремление к тому, чего нет. Мечтою строятся дивные чертоги несбыточного, и для предварения того, чего нет, сжигается огнём сладкого песнетворчества всё, что есть, что явлено. Всему, чем радует жизнь, сказано нет».
«Подойти покорно к явлениям жизни, сказать всему да, принять и утвердить до конца всё являемое — дело великой трудности. На этом пути трудно пройти далеко, потому что его стережёт Дракон Вечного противоречия. Но познавший великий закон тождества совершенных противоположностей не убоится дракона, и бестрепетно вступит в область вечной Иронии».
«И та, и другая область поэзии редко остаются в своей начальной чистоте, и многие представляют уклоны…
Для иллюстрации такого понимания поэтического творчества Сологуб берёт сервантесского Дон-Кихота и его идеал — Дульцинею Тобосскую (всем видимую как крестьянку Альдонсу).
Вечный выразитель лирического отношения к миру Дон-Кихот знал, конечно, что Альдонса — только Альдонса, простая крестьянская девица с вульгарными привычками и узким кругозором ограниченного существа. Но на что же ему Альдонса? И что ему Альдонса? Альдонсы нет! Альдонсы не надо. Альдонса — нелепая случайность, мгновенный и мгновенно изживаемый каприз пьяной Айсы. Альдонса — образ, пленительный для её деревенских женихов, которым нужна работящая хозяйка. Дон-Кихоту, — лирическому поэту, — ангелу, говорящему жизни вечное нет, — надо над мгновенною и случайною Альдонсою воздвигнуть иной, милый, вечный образ. Данное в грубом опыте дивно преображается, — и над грубою Альдонсою восстаёт вечно прекрасная Дульцинея Тобосская.
Грубому опыту сказано сжигающее нет, лирическим устремлением дульцинируется Мир. Это — область Лирики, поэзии, отрицающей мир, светлая область Дульцинеи.
Таким образом, «для лирического поэта, как для Дон-Кихота, нет Альдонсы, — есть Дульцинея. Для иронического поэта, как для Санчо-Пансо, нет Дульцинеи, — есть Альдонса…» К дуалистическому символу Дульцинея—Альдонса Сологуб будет неоднократно обращаться на протяжении последующих нескольких лет (в публицистике и драме «Победа Смерти»).
Реальное, живое воплощение этой мечты Дон-Кихота Сологуб видел в искусстве американской танцовщицы Айседоры Дункан. Зритель видит «истинное чудо преображения обычной плоти в необычайную творимую на его глазах красоту, видит, как зримая Альдонса преображается в истинную Дульцинею, в истинную красоту этого мира, — и чудо преображения чувствует в себе самом».
Милые, бедные работницы, — призывал В своей лекции, обращаясь к рабочим Сологуб, — с серпом или с иглою в утомлённых руках, придите, взгляните на вашу сестру, на эту пляшущую, на эту пляскою трудящуюся Альдонсу, — придите и научитесь, какие возможности красоты и восторга в ваших носите вы телах; поймите, как прекрасна, как благоуханна преображенная в дерзком подвиге, нестыдливо обнажённая, милая плоть, прекрасное тело Дульцинеи.
Итак, преображение жизни путём созидающей мечты!
«Тягостный и весёлый» подвиг.
Так развивается главная тема творчества Сологуба — творимая легенда.
В беллетризованной форме свои идеи Сологуб выразил в романе-трилогии «Творимая легенда» (1905—1913). Изначально, задуманный им цикл романов назывался «Навьи чары», и первая часть называлась «Творимая легенда» (1906), за нею следовали «Капли крови», «Королева Ортруда» и «Дым и пепел» (в двух частях), — все они были опубликованы 1907–1913 гг. Затем Сологуб отказался от столь декадентского названия в пользу «Творимой легенды», что более соответсвовало идее романа. Окончательная редакция «Творимой легенды», уже как трилогии, была помещена в XVIII-XX тт. Собрания сочинений изд-ва «Сирин» (1914); годом ранее роман был издан в Германии на немецком).
Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, — над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном.
В спутанной зависимости событий случайно всякое начало. Но лучше начать с того, что и в земных переживаниях прекрасно, или хотя бы только красиво и приятно. Прекрасны тело, молодость и весёлость в человеке, — прекрасны вода, свет и лето в природе.
Такими, ставшими хрестоматийными, строками начинается роман. В трилогии попытка воплощения грезы — самого главного элемента символа — совершается одновременно разными людьми в разных странах. Герой трилогии учитель и поэт Триродов своею жизнью претворяет все свои замыслы, заменяя своею волею Бога.
В устроенной в его поместье детской колонии живут «тихие дети», — забирая весь мрак жизни и её мёртвый покой, они дают тем самым Триродову возможность чувствовать всю полноту жизни и своей воли. За пределами поместья проносятся ураганы несправедливой и мучительной жизни: казацкие разгоны демонстраций, наглые выходки черносотенцев, борьба политических партий, угар бесконечных интеллигентских споров. Будучи изощрённым химиком и инженером, Триродов противостоит этой действительности. Лишь высшее начальство докучает. К Триродову является даже Ардальон Борисыч Передонов, бывший сумасшедший, а ныне — вице-губернатор. За эликсиром жизни приезжает 160-летний маркиз Телятников и встречает на балу у Триродова своих умерших друзей и любовниц. Но самый неожиданный гость — Иисус Христос, выведенный под именем князя Эммануила Осиповича Давидова:
Триродов с первого взгляда узнал гостя, хотя раньше никогда не встречался с ним в обществе. Знал его хорошо, но только по его портретам, по его сочинениям, по рассказам его почитателей и по статьям о нем. В юности завязались было кое-какие отношения через знакомых, но скоро порвались. Даже не удалось повидаться.
Триродову почему-то вдруг стало как-то неопределенно весело и жутко. Он думал:
«Зачем он ко мне приехал? Что ему от меня надо? И как он мог вспомнить обо мне? Так разошлись наши дороги, так мы стали чужды один другому».
И было волнующее любопытство:
«Увижу и услышу его в первый раз».
И бунтующий протест:
«Слова его — ложь! Проповедь его — бред отчаяния! Не было чуда, и нет, и не будет!»
Чудо есть лишь выражение своей Воли. И Триродов и его подруга Елисавета мистическим образом соединяются с душами жителей совершенно другой страны. Средняя часть трилогии, «Королева Ортруда», рассказывает о жизни королевы Балеарских островов. Здесь средневековая сказочность повествования прерывается грубыми голосами современной жизни. Социалисты, члены парламента, аристократия, принцы — все заняты собственными мелкими заботами, и никто — собою лично. Томления королевы Ортруды достигают всемирно-чувствующего сердца Триродова. После гибели Ортруды общая воля людей Островов, наконец, приобретает максимальную силу, — и вот учитель из далёкой России — Триродов — уже провозглашается Королём Георгием.
Критика восприняла роман с недоумением: непривычен был жанр, в котором злободневные проблемы и волшебное гармонично сочетались. Черносотенцы, социализм, химические опыты, замки и дворцы субтропического королевства, мёртвые, русалки, — всё это сбивало с толку, было непонятно. Первым, кто увидел важнейшее значение трилогии, была Ан. Чеботаревская, написавшая статью «Творимое творчество» (Зритель № 2, 1908; к тому времени была опубликована только первая часть романа). В статье она предприняла одну из первых попыток объяснить и связать воедино всё творчество Сологуба.
Замысел «Творимой легенды» был поистине масштабный и интересный; по схожему пути позже шли Е. Замятин и М. Булгаков. Но роман, несмотря на три современных переиздания, продолжает оставаться малоизученным.
В следующем романе Фёдора Сологуба «Слаще яда», напротив, никакой мистики не было. Это была драма о любви мещанской девушки Шани и юного дворянина Евгения. «Творимая легенда» оборачивается полуфарсом, полутрагедией, Сологуб показывает горьчайшую иронию подвига преображения жизни. Созидая «сладостную легенду» и предолевая многочисленные трудности по устремлениям своей воли, Шаня упирается в безволие и малодушие своего избранника, типичного пошляка. Творчество и сила любви не позволяют ей видеть всю тупость и низость «дворянина» Евгения. Лишь иногда, когда очевидность гадких поступков Евгения становится вопиющей, Шаня чувствует некий холод действительности, но старается отстраниться от его. Евгений невозможен. Евгений — чудовищный бред мечтаний Шани, вырвавшихся наружу и воплотившихся благодаря её воле.
«Мещанка! — думал он, перебирая книги. — И всё-таки она премилая. Конечно, она дурно воспитана, действительно по-мещански, — какие манеры и словечки! Но я её перевоспитаю: она рада подчиняться, она меня так любит, бедняжка, — мне её не трудно будет обломать. Любовь ко мне переродит её».
А что Шаня?
Шаня отправилась в Гостиный двор, — неуклюжее белое каменное здание, под грузными аркадами которого помещались лучшие в городе лавки и магазины, и там купила красивый альбом. На заглавном листке альбома Шаня сделала крупную надпись: «Женины заветы».
На первой странице написала она сама: «Хочу быть достойною моего возлюбленного. Хочу всё делать и о всём думать по мысли и по душе господина моего. Хочу вся жить в нём и из воли его не выйду. Помоги мне Господи, быть верною ему!»
А со второй страницы начались Женины заветы.
— Уважай самого себя, — говорит Женя, — если не хочешь стать в ряды презренных рабов.
— Ставь себя на самое высокое место, и тебе поклонятся.
— Не жди оценки от других, хвали сам себя; не верь тем, кто говорит, что это — жалкое самохвальство.
— Свою хвалу себе я поддержу всею своею жизнью. — Прекрасны люди, рожденные для господства. Презренны рожденные для низкой корысти.
— Хорошо иметь предков, делами которых можно гордиться.
Женины заветы иногда слишком больно ранили Шанину душу. Иногда кое-что в них было ей непонятно. Тогда она писала Евгению и просила объяснений. Евгений отвечал ей нежно, но очень свысока. Иногда её вопросы казались ему просто глупыми, и тогда он отвечал ей не без раздражения. Но так как раздражение — плохой советчик, то Евгений порою и сам запутывался в своих ответах. Иногда Шаню даже обижало, что он не хочет понять ее сомнений.
Всё неумолимо движется к трагической развязке. Творимой легенды не выходит. Альдонса, стремящася стать Дульцинеей, так и не стала ею в сердце пустого человека.
Роман писался следом за «Творимой легендой», хотя был задуман много ранее. Ещё в 1897 году был опубликован рассказ «Шаня и Женя», позже переименованный в «Они были дети» — он-то и составил первую часть романа «Слаще яда», к замыслу которого Сологуб вернулся в начале 1910-х гг. Печатался он в «Новой жизни» (1912), затем был издан в составе Собрания сочинений изд-ва «Сирин» (1914; XV—XVI тт.). Этот роман Сологуб посвятил Ан. Н. Чеботаревской.
* * *
Собрание сочиений, куда вошли «Творимая легенда» и «Слаще яда», было заметным пунктом в творческой биографии Фёдора Сологуба. Издание Собрания сочинений вызывает иногда путаницу, однако всё просто: вышло два законченных собрания сочинений Фёдора Сологуба в двух разных издательствах. 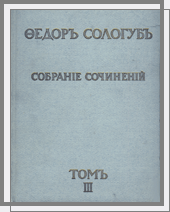 Первое, 12-томное, Собрание сочинений было выпущено в 1909—1911 гг. издательством «Шиповник», органом петербургских символистов. Второе же, 20-томное, Собрание сочинений вышло в 1913—1914 гг. в изд-ве «Сирин», которое перепечатало без изменений 12 томов первого Собрания и добавило 8 новых томов. Особенность сиринского издания в том, что все тома, включая первые двенадцать, имели названия: так, например, I том шиповниковского издания назывался просто «Стихи», равно как VI и IX тома, в «Сирине» же они получили заглавия «Лазурные горы», «Восхождения», «Змеиные очи», соответственно. Из-за чего применительно к первому оригинальному Собранию изд-ва «Шиповник» принято пользоваться сиринскими наименованиями томов (см. Библиографию). 20-томное Собрание сочинений издания «Сирина», напечатанное на качественной бумаге с крупным шрифтом, до сих пор используется в качестве источника републикации текстов. Первое, 12-томное, Собрание сочинений было выпущено в 1909—1911 гг. издательством «Шиповник», органом петербургских символистов. Второе же, 20-томное, Собрание сочинений вышло в 1913—1914 гг. в изд-ве «Сирин», которое перепечатало без изменений 12 томов первого Собрания и добавило 8 новых томов. Особенность сиринского издания в том, что все тома, включая первые двенадцать, имели названия: так, например, I том шиповниковского издания назывался просто «Стихи», равно как VI и IX тома, в «Сирине» же они получили заглавия «Лазурные горы», «Восхождения», «Змеиные очи», соответственно. Из-за чего применительно к первому оригинальному Собранию изд-ва «Шиповник» принято пользоваться сиринскими наименованиями томов (см. Библиографию). 20-томное Собрание сочинений издания «Сирина», напечатанное на качественной бумаге с крупным шрифтом, до сих пор используется в качестве источника републикации текстов.
В Собрание, помимо «Творимой легенды» и «Слаще яда» вошли романы «Тяжёлые сны» и «Мелкий бес». Рассказы заняли шесть томов. В четыре из них помещены рассказы как из изданных книг («Тени», 1896; «Жало смерти», 1904; «Истлевающие личины», 1907; «Книга разлук», 1908; «Книга очарований», 1909), так и напечатанные в журналах и газетах в 1894—1908 гг., в том числе самый первый, «Ниночкина ошибка», — всё это классика русского модернизма. Из новых рассказов (1909—1913 гг.) состояли XII и XIV тома, «Книга стремлений» и «Неутолимое».
Лирика заняла пять томов (следует указать, что в 1909—1914 не выходило отдельных поэтических сборников). Из собственно новых стихов состоял лишь один том — «Очарования земли», в котором помещены стихотворения 1913 года (включая обширный раздел триолетов). Все же остальные тома были собраниями стихов самых разных лет, многие из которых прежде уже побывали в поэтических книгах Сологуба. Композиционные особенности сборников Сологуба позже отметил Владислав Ходасевич. «У Сологуба всегда имелся большой запас неизданных пьес, написанных в разные времена. Собирая их в книги, он руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими признаками (но иногда чисто просодическими: такова его книга, составленная из одних триолетов). Составлял книги приблизительно так, как составляют букеты; запас, о котором сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И вот замечательно, что букеты оказывались очень стройными, лёгкими, лишёнными стилистической пестроты или разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдалённых годов не только вполне уживались друг с другом, но и казались написанными одновременно. Сам Сологуб, несомненно, знал это свойство своих стихов. Порой, когда это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как те, из которых были вынуты. Вот, например, книга "Жемчужные светила". В неё вошли стихи с 1884 до 1911 года. Тут лишь небольшая часть написанного за этот период. Но Сологуб вознамерился дать известную гамму, собрать стихи определённого оттенка — и вполне мог это сделать, отобрав подходящие пьесы из написанного за целых двадцать восемь лет. И снова — не только ни одного формального или стилистического скачка, броска, диссонанса, но напротив: всё точно бы одновременно писано».
Плещут волны перебойно,
Небо сине, солнце знойно,
Алы маки под окном,
Жизнь моя течёт спокойно,
И роптать мне непристойно
Ни на что и ни о чём.
Только грустно мне порою,
Отчего ты не со мною,
Полуночная Лилит,
Ты, чей лик над сонной мглою,
Скрытый маскою — луною,
Тихо всходит и скользит.
Из-под маски он, туманный,
Светит мне, печально-странный, —
Но ведь это — всё ж не ты!
Ты к стране обетованной,
Долгожданной и желанной
Унесла мои мечты.
Что ж осталось мне? Работа,
Поцелуи да забота
О страницах, о вещах.
За спиною — страшный кто-то,
И внизу зияет что-то,
Притаясь пока в цветах.
Шаг ступлю, ступлю я прямо.
Под цветами ахнет яма,
Глина сухо зашуршит.
То, что было богом храма,
Глухо рухнет в груду хлама, —
Но шепчу опять упрямо:
«Где ты, тихая Лилит?»
(Из кн. «Жемчужные светила», XIII том Собрания Сочинений)
В VIII том Собрания вошли драматические произведения. X том поделили между собой сказочки и избранная публицистика 1899—1910 гг. Как видно на примере состава Собрания Сологуб придал равноправие всем жанрам своего творчества, поместив романы, стихи, рассказы, пьесы, сказочки и статьи не в жанровой последовательности, а в произвольном порядке, стараясь выдержать его сколько-нибудь хронологически.
Перед самым выходом Собрания сочинений изд-ва «Шиповник» Сологуб издал «Хронологический указатель напечатанного с 28 января 1884 года по 1 июля 1909 года» — ценнейший библиографический источник, составленный самим автором, — редко у кого из русских писателей была такая дисциплина ведения собственного литературного хозяйства. Сологуб фиксировал все свои публикации, отсылки в редакции, возвраты, не говоря о самих произведениях — стихи датировались вплоть до отдельных строф, с указанием места написания; велись также алфавитный и хронологический списки сочинений, реестр всех отправленных и полученных писем с 1883 года, а также тетрадь посетителей. Такой порядок почти не оставляет работы архивистам.

XIV
РАЗЪЕЗЖАЯ, 31
Салон на Разъезжей улице — Скандал — Игорь Северянин
(1910—1913)
 О ЗАВЕРШЕНИЮ ДАЧНОГО сезона 1910 года, Сологуб с Чеботаревской переезжают с Гродненского переулка в дом 31 по Разъезжей улице. Тут, в громадной холодной квартире стараниями Чеботаревской был устроен настоящий салон, в котором, по выражению Эрберга, «собирался почти весь тогдашний театральный, художественный и литературный Петербург». Изменился и облик Сологуба. Сбрив старомодную бороду и усы и перестав постоянно носить пенсне, Фёдор Кузьмич заметно помолодел. О ЗАВЕРШЕНИЮ ДАЧНОГО сезона 1910 года, Сологуб с Чеботаревской переезжают с Гродненского переулка в дом 31 по Разъезжей улице. Тут, в громадной холодной квартире стараниями Чеботаревской был устроен настоящий салон, в котором, по выражению Эрберга, «собирался почти весь тогдашний театральный, художественный и литературный Петербург». Изменился и облик Сологуба. Сбрив старомодную бороду и усы и перестав постоянно носить пенсне, Фёдор Кузьмич заметно помолодел.
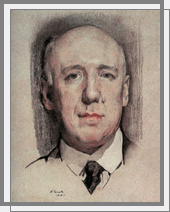 Постепенно строгие литературные чтения, характерные для камерных собраний первой половины 1900-х сменились увеселительными мероприятиями — многолюдными застольями, новогодними маскарадами, танцами. Салон приобрёл вес. Публика была разнообразная, много более пёстрая, чем в Андреевском училище: помимо писателей, поэтов, художников и режиссёров, были антрепренёры, импресарио, журналисты, политики, адвокаты, актёры и актрисы. Начинающие поэты и актрисы старались попасть в салон, дабы устроить свои связи и дела. Выступали с докладами на политические темы кадеты, эсеры, философы. Постепенно строгие литературные чтения, характерные для камерных собраний первой половины 1900-х сменились увеселительными мероприятиями — многолюдными застольями, новогодними маскарадами, танцами. Салон приобрёл вес. Публика была разнообразная, много более пёстрая, чем в Андреевском училище: помимо писателей, поэтов, художников и режиссёров, были антрепренёры, импресарио, журналисты, политики, адвокаты, актёры и актрисы. Начинающие поэты и актрисы старались попасть в салон, дабы устроить свои связи и дела. Выступали с докладами на политические темы кадеты, эсеры, философы.
Собирались обыкновенно поздно: часам к десяти-одиннадцати, — вспоминал Игорь Северянин, — и засиживались до четырёх-пяти утра… Съезжавшиеся гости, раздевшись в просторной передней, входили во вместительный белый зал, несколько церемонно рассаживаясь на его белых же стульях вдоль стен. В одном из углов зала, ближе к столовой, стоял мягкий шёлковый диван и такие же кресла вокруг круглого столика. У двери, ведущей в кабинет хозяина, помещался рояль и близ него кожаная кушетка. Одну из стен золотила своим солнечным дождём «Даная» Калмакова, и громадное панно по эскизу Судейкина звучало своим тоном.
Собиравшиеся вполголоса беседовали по группам, хозяин обходил то одну, то другую группу, иногда на мгновение присаживаясь и вставляя, как всегда, значительно несколько незначительных фраз. Затем всё как-то само собой стихало, и поэты и актёры по предложению Сологуба читали стихи. Аплодисменты не были приняты, и поэтому после каждой пиесы возникала подчас несколько томительная пауза. Большей частью читал сам Сологуб и я, иногда — Ахматова, Тэффи, Глебова-Судейкина (стихи Сологуба), Вл. Бестужев-Гиппиус и К. Эрберг…
Сологуб читал очень просто, чётко и всегда, даже в минуты бодрости, казалось, устало. Я очень любил его колдовской, усмешливый и строгий голос. Но монотонность его интонаций в особенности под утомительное утро, действовала усыпительно: был случай, когда я однажды уснул под его чтение.
Во время полночного ужина Сологуб любил произносить спичи, остроумные и блистательные по форме; они составляли неизменную программу вечера. Было много и несерьёзного: каламбуры, игры, иногда весёлые, иногда утомительные.
После ужина, — рассказывает актриса театра В. Э. Мейерхольда, — когда маститые гости расходились, Фёдор Кузьмич подмигивал нам, молодым, и мы оставались. Тут начиналось настоящее веселье… Самым весёлым была наша игра в кино. Развешивалась большая простыня, тушили свет, а за простынёй ставилась яркая лампа. Мы действовали между лампой и простыней, на которой чётко вырисовывались наши тени. Весь нужный реквизит давала нам жена Сологуба. Фёдор Кузьмич садился с ногами на диван и диктовал нам текст, а мы мгновенно его изображали на экране. Старались больше играть в профиль, так как этот экран фаса передать не мог. Конечно, в основном, мы пародировали кино. Играли гротескно, а иногда (на то мы были и студийцы) применяли технику балагана. По тексту Сологуба я изображала Фата Моргану… Всеволод Эмильевич сам в нашей игре участия не принимал. Он сидел рядом с Сологубом и иногда выкрикивал своё знаменитое «Хорошо!». Иногда у нас «рвалась лента», и мы замирали в самых невероятных позах.
После Нового года у Сологуба устраивались маскарады. Между прочими современникам запомнился надолго один, имевший место быть 3 января 1911 года. Писатель Алексей Толстой пришёл на маскарад и попросил хозяйку что-нибудь подыскать ему для наряда, — та предложила ему шкуру обезьяны, которую достала у одной аристократки, с уговором обращаться с дорогой шкурою бережно. Каков же был ужас Анастасии Николаевны, когда она увидала спустя некоторое время спокойно разгуливавшего среди гостей Алексея Ремизова с обезьяньим хвостом, торчащим из-под его пиджака. Собравшихся забавлял этот отрезанный хвост, но с другой стороны это был скандал. И обвинён был по понятным причинам Ремизов, известный своими шутками и мистификациями, часто неприятно задевавшими окружающих. К тому же он — основатель «Обезьяньей Великой и Вольной палаты». Ремизову пришлось писать одно за другим извинительные письма, в которых он отвергал обвинения в свой адрес. Оставался граф А. Н. Толстой, на которого и набросилась Чеботаревская. Она потребовала всех знакомых Сологуба не принимать более в своих домах графа; Сологуб также был вовлечён в подобную переписку. Потом состоялся третейский суд. Всё это так подействовало на Толстого, что он уехал из Петербурга и долго в нём не появлялся. История о «хвосте» долго ещё забавляла петербургских литераторов. Виновным на самом деле и был Алексей Толстой — в конце жизни признавшийся, что это он оторвал хвост от шкуры, из озорства. Ремизов же нашёл этот хвост и прицепил себе за неимением маскарадного костюма.
В салоне на Разъезжей устраивались специальные вечера в честь новых интересных поэтов, — были вечера Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Игоря Северянина. С последним Сологуба связали не только литературные дела, но длительное знакомство.
* * *
В начале 10-х годов Фёдор Сологуб заинтересовался футуризмом; возможно, даже был и лично знаком с Томазо Маринетти. В 1912 году Сологуб, главным образом через Чеботаревскую, сближается с группой петербургских эгофутуристов (Иван Игнатьев, Василиск Гнедов и др.). Лирика Сологуба была созвучна идеям эгофутуризма (вспомним известное: «Интимное стало всемирным», 1906), и Сологуб и Чеботаревская с интересом принимали участие в альманахах эгофутуристических издательств «Очарованный странник» Виктора Ховина и «Петербургский глашатай» Игнатьева.  Через последнего Сологуб в октябре 1912 познакомился с автором сильно заинтересовавших его стихов — 25-летним поэтом Игорем Северяниным, и вскоре после этого устроил ему вечер в своём салоне. Поэт «Жемчужных светил» настолько поддался очарованию стихов Северянина, что немедленно договорился с крупным издательством «Гриф» и вместе с Игорем подготовил книгу его «поэз». Это была первая настоящая книга даровитого эгофутуриста, к тому времени опубликовавшего десятки крохотных поэтических брошюр. В том же восторженном духе Фёдор Сологуб написал изящное предисловие к этому сборнику, получившему название «Громокипящий кубок». Через последнего Сологуб в октябре 1912 познакомился с автором сильно заинтересовавших его стихов — 25-летним поэтом Игорем Северяниным, и вскоре после этого устроил ему вечер в своём салоне. Поэт «Жемчужных светил» настолько поддался очарованию стихов Северянина, что немедленно договорился с крупным издательством «Гриф» и вместе с Игорем подготовил книгу его «поэз». Это была первая настоящая книга даровитого эгофутуриста, к тому времени опубликовавшего десятки крохотных поэтических брошюр. В том же восторженном духе Фёдор Сологуб написал изящное предисловие к этому сборнику, получившему название «Громокипящий кубок».
Одно из сладчайших утешений жизни — поэзия свободная, лёгкая, радостный небесный дар. Появление поэта радует, и когда возникает поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны.
«Люблю грозу в начале мая!!»
Люблю стихи Игоря Северянина… Явление его — воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, лёгкие, сверкающие и звенящие, льются потому, что переполнен громокипящий кубок в руках нечаянно наклонившей его Гебы, небожительницы смеющейся и щедрой…
Книга вышла в начале марта 1913 года, как раз, когда было организовано первое литературное турне Сологуба, в котором также приняли участие Чеботаревская и — Игорь Северянин, до того не выступавший для широкой аудитории. Маршрут пролегал от Минска до Кавказа, через Крым, в котором к ним присоединился местный эгофутурист, Вадим Баян. Не соглашайтесь с ними, — говорил о футуристах Сологуб в интервью «Одесским новостям» 12 марта 1913 года, — ругайте их, но пусть они будут. Они заставят нас посмотреть на себя, спорить, бурлить, задуматься над новыми формами и течениями.
И хотя Северянин под самый конец гастролей бросил Сологуба, отношения между поэтами не прекратились. 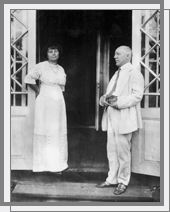 Летом 1913 по приглашению Северянина Сологубы сняли дачу в эстонском посёлке Тойла. Поэты продолжали обмениваться книгами с дружескими дарственными надписями, писали стихотворные посвящения, пока Северянин опять не омрачил дружбу нелепой выходкой: поддавшись влиянию своих приятелей, московских кубофутуристов, Маяковского, Бурлюка и других, он подписался под их манифестом «Идите к чёрту!», опубликованному в начале 1914 года в альманахе «Рыкающий Парнас», где были следующие строчки: «Ф. Сологуб схватил шапку И. Северянина, чтобы прикрыть свой облысевший талантик». Летом 1913 по приглашению Северянина Сологубы сняли дачу в эстонском посёлке Тойла. Поэты продолжали обмениваться книгами с дружескими дарственными надписями, писали стихотворные посвящения, пока Северянин опять не омрачил дружбу нелепой выходкой: поддавшись влиянию своих приятелей, московских кубофутуристов, Маяковского, Бурлюка и других, он подписался под их манифестом «Идите к чёрту!», опубликованному в начале 1914 года в альманахе «Рыкающий Парнас», где были следующие строчки: «Ф. Сологуб схватил шапку И. Северянина, чтобы прикрыть свой облысевший талантик».
После этого из переизданий «Громокипящего кубка», ставшего невероятно популярным, исчезло известное предисловие, Сологуб исключил триолет о Северянине «Все мы сияющие выгорим…» из подготавливаемой им тогда же книги «Очарования земли» (отдел «Поэты»). Позже их отношения вновь восстановились, и лето 1914 года Сологубы провели рядом с Северяниным в Тойле.
Салон на Разъезжей просуществовал до осени 1916 года. В ноябре того года Сологуб с женой сменили квартиру и переехали на 9-ю линию Васильевского Острова. Последующие события в стране и общая занятость не располагали к подобным шумным собраниям. Следует заметить, что самому Фёдору Кузьмичу в середине 1910-х редко приходилось оказывать гостеприимство в своём доме по причине долгого отсутствия: как только дачный сезон заканчивался (а ему предшествовала иногда поездка заграницу) Сологуб отправлялся в длительные турне по России с лекциями «Искусство наших дней» и «Россия в мечтах и ожиданиях».

XV
«ИСКУССТВО НАШИХ ДНЕЙ»
Лекционные поездки по России — Триолеты — «Дневники писателей»
(1913—1914)
 НАЧАЛУ 1910-Х ГОДОВ Фёдор Сологуб становится полноправным участником литературной и общественной жизни России. Когда-то отношение к Сологубу можно было проиллюстрировать следующим эпизодом из очерка Тэффи: НАЧАЛУ 1910-Х ГОДОВ Фёдор Сологуб становится полноправным участником литературной и общественной жизни России. Когда-то отношение к Сологубу можно было проиллюстрировать следующим эпизодом из очерка Тэффи:
Печатался он у Нотовича в «Новостях», причём Нотович сурово правил его волшебные и мудрые сказочки.
— Опять принёс декадентскую ерунду.
Платил гроши. Считал себя благодетелем.
— Ну кто его вообще будет печатать? И кто будет читать!
— теперь же крупнейшими газетами публикуются его интервью и «письма в редакцию» (ответ Сологуба на анкету «Что читать во время войны?» помещён третьим (!) после полагающихся священников), к нему обращаются с просьбами выступить, снимают для кинохроники, наконец, выходят два многотомных собрания сочинений. Читательская аудитория символистов существенно расширилась (прежние немногочисленные кружки «посвящённых» заменились толстыми журналами, альманахами и шумными дискуссиями на эстрадах). 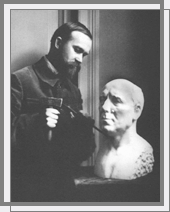 На фоне такого повышенного интереса общества к новому искусству и к сочинениям автора «Творимой легенды» в частности, Фёдор Сологуб задумал серию поездок по стране с чтением стихов и лекции о новом искусстве, пропагандировшей принципы символизма. Многих это должно было удивить. Ведь писатель всегда, казалось, сторонился публичного образа, — ещё в 1908 году стоило большого труда уговорить его выступить с чтением своих стихов перед публикой («Я и то очень глуп, — писал Сологуб в письме, — что дал согласие на это идиотство, — лезть на эстраду на потеху всякого случайного сброда»). Что же изменилось? Вероятно ничего не изменилось: «певцу порока и мутной мистики», «эгоцентристу» всегда было свойственно стремление оказать воздействие своей воли, там где это возможно — отсюда сотрудничество с политической газетой в годы революции, теперь лекции по стране, дававшие Сологубу непосредственный контакт с большим читательским кругом. На фоне такого повышенного интереса общества к новому искусству и к сочинениям автора «Творимой легенды» в частности, Фёдор Сологуб задумал серию поездок по стране с чтением стихов и лекции о новом искусстве, пропагандировшей принципы символизма. Многих это должно было удивить. Ведь писатель всегда, казалось, сторонился публичного образа, — ещё в 1908 году стоило большого труда уговорить его выступить с чтением своих стихов перед публикой («Я и то очень глуп, — писал Сологуб в письме, — что дал согласие на это идиотство, — лезть на эстраду на потеху всякого случайного сброда»). Что же изменилось? Вероятно ничего не изменилось: «певцу порока и мутной мистики», «эгоцентристу» всегда было свойственно стремление оказать воздействие своей воли, там где это возможно — отсюда сотрудничество с политической газетой в годы революции, теперь лекции по стране, дававшие Сологубу непосредственный контакт с большим читательским кругом.
После основательной подготовки и премьеры лекции «Искусство наших дней» 1 марта 1913 года в зале Тенишевского училища в Петербурге, Сологубы вместе Игорем Северяниным выехали в турне. Более месяца продолжалась их поездка по российским городам (Минск, Вильна, Харьков, Одесса, Симферополь и др.), завершившись в апреле в Грузии. «Мне интересно было посмотреть на своего читателя, — сказал по окончании турне Сологуб. — Из этого знакомства я вывел заключение, что читатель в массе относится более непосредственно и, пожалуй, даже глубже к писателю, чем критика. […] Цель моей поездки была — выступить хоть однажды перед публикою без посредства прессы и критики».
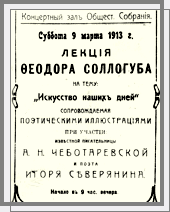 Основные тезисы лекции «Искусство наших дней» были составлены Чеботаревской, прилежно организовавшей credo сологубовской эстетики по его статьям. При этом были учтены предшествующие работы Д. С. Мережековского, Н. Минского, В. И. Иванова, А. Белого, К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова, — Сологуб, один из первых символистов, последним из них сказал своё обоснование символизма в эпоху, когда символизм существенно подвёргся пересмотру как самими символистами и их критиками, так и новыми литературными течениями, порождавшими эстетическую борьбу. Основные тезисы лекции «Искусство наших дней» были составлены Чеботаревской, прилежно организовавшей credo сологубовской эстетики по его статьям. При этом были учтены предшествующие работы Д. С. Мережековского, Н. Минского, В. И. Иванова, А. Белого, К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова, — Сологуб, один из первых символистов, последним из них сказал своё обоснование символизма в эпоху, когда символизм существенно подвёргся пересмотру как самими символистами и их критиками, так и новыми литературными течениями, порождавшими эстетическую борьбу.
Моя мысль обращена, главным образом, к тому, чего я хочу от искусства, — начинал лекцию Сологуб. — Значительно не то, что есть, а то, к чему наши устремлены желания. Стоит захотеть очень сильно, слить свою волю с мировою волею, чтобы сбылось желанное. […]
Искусство наших дней следует отграничить в двух направлениях. С одной стороны, оно существенно отличается от тенденциозного искусства предыдущего периода; с другой стороны, оно отличается и от самодовлеющего эстетизма «искусства для искусства». Искусство для жизни и искусство для искусства — одинаково несовершенные виды искусства. Искусство наших дней опять выходит на широкий путь свободного творчества, потому что в нём опять начинают преобладать волевые элементы. Искусство наших дней сознаёт своё превосходство над жизнью и над природою.
Далее Сологуб развивает мысль о соотношении искусства и жизни. Подлинное искусство влияет на жизнь, заставляет нас смотреть на жизнь уже пережитыми образами, но оно же и побуждает к действию. Без искусства жизнь становится лишь бытом, с искусством же начинается преобразование самой жизни, т. е. творчество. А оно, если искренно, всегда будет этически оправданным, — таким образом мораль ставится в зависимость эстетики. Говоря о творчестве как таковом, Сологуб пользуется символикой терминов «лирики» и «иронии», впервые заявленных в эссе «Демоны поэтов» (1907; см. выше). Наиболее глубоким и возвышающим жанром искусства Сологуб полагает трагедию («цель трагедии — очищение души зрителя в волевом акте сочувствия и сопереживания. Драма хочет стать активным фактором нашей душевной жизни, произвести в ней некоторое внутреннее потрясение»). Тут «певец смерти» переходит к непосредственно к спутнице жизни. «Вопрос о смерти с такою же неодолимою силою влечёт многих современных поэтов, как и вопрос о смысле жизни. […] Смерть, подводя итоги всем жизненным явлениям, укрощая всякую вражду и злобу, разрешая все противоречия, спасая от нестерпимого, не только осмысливает, но и освящает жизнь. Все мы знаем, что вместе со смертью в дома наши входит торжественное, умиротворяющее настроение».
Что же о самом «искусстве наших дней», символизме? Оно, по мысли Сологуба, и является единственно подлинным, возвышающим искусством:
Правдивым и моральным, воистину свободным вполне может быть только искусство символическое, — искусство, основанное на символах, в противоположность натурализму, основанному на изображении мира, каким он является, каким он кажется нам. […] Для символизма предметы этого преходящего мира представляются не в их отдельном, случайном существовании, как для натурализма, но в общей связности не только между собою, но и с миром более широким, чем наш.
[…]
Когда художественный образ даёт возможность наиболее углубить его смысл, когда он будит в душе воспринимающего обширные сцепления мыслей, чувств, настроений, более или менее неопределённых и многозначительных, тогда изображаемый предмет становится символом, и в соприкосновении с различными переживаниями делается способным порождать из себя мифы.
[…]
Поэтому в высоком искусстве образы стремятся стать символами, т. е. стремятся к тому, чтобы вместить в себя многозначительное содержание, стремятся к тому, чтобы это содержание их в процессе восприятия было способно вскрывать всё более и более глубокие значения. В этой способности образа к бесконечному его раскрытию и лежит тайна бессмертия высоких созданий искусства. Художественное произведение, до дна истолкованное, до конца разъяснённое, немедленно же умирает, жить дальше ему нечем и незачем: оно исполнило своё маленькое временное значение, и померкло, погасло, как гаснут полезные земные костры, разведённые каждый раз на особый случай. Звёзды же высокого неба продолжают светиться.
Символизм является одною из основных черт нового искусства, столь существенною, что теперь всякая литературная школа, которая отреклась бы от символизма, представляла бы лишь возврат к прежним формам искусства, напр., к натурализму...
В подтверждение своих положений лектором приводились примеры творчества Сервантеса, Шекспира и древнегреческих авторов, которые принадлежат искусству символическому. Таким образом, Сологуб отделяет термин, связываемый со специфическим стилем литературы, развившимся в России в 1890-х гг., и придаёт ему общее, «демократическое значение»:
Символизм есть основа всякого большого искусства. Это — стихия, в которую погружено большое искусство и которая создаёт неразрывную связь содержания и формы. Искусство тенденциозное предпочтение отдаёт содержанию, пренебрегая формою; искусство эстетов заботится только о форме, так что виртуозность формы прикрывает иногда ничтожное содержание; искусство же символическое отвергает оба эти неправые уклона, и требует полнейшего соответствия между содержанием и формою. Кого бы из великих писателей прежних и новых веков мы не вспомнили, от Эсхила и Софокла до Ибсена и Метерлинка, все они создавали образы, ставшие для нас символами, источниками живых мифов. Примеры: миф о похищении небесного огня Прометеем, о рыцарских подвигах Дон-Кихота во славу Дульцинеи, о преступлении и наказании Раскольникова...
После первых выступлений оказалось, что лекции Сологуба на слух принимались не очень успешно. 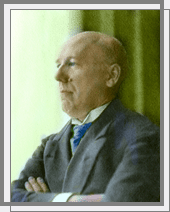 Публика была самая разная: кто шёл «на Сологуба» — столичную знаменитость, а им преподносили малопонятные мысли, «усиливаемые» тихим монотонным голосом, а кто шёл в надежде услышать откровение из уст представителя нового искусства. И те и другие слушали с одинаковым вниманием, более восприимчива была учащаяся молодёжь, люди же старшего поколения в большинстве своём оставались чужды эстетике символизма. Так или иначе, аудитории были «переполнены слушателями, все места и вверху и внизу были заняты, даже в проходах не оставалось пустого места». Публика была самая разная: кто шёл «на Сологуба» — столичную знаменитость, а им преподносили малопонятные мысли, «усиливаемые» тихим монотонным голосом, а кто шёл в надежде услышать откровение из уст представителя нового искусства. И те и другие слушали с одинаковым вниманием, более восприимчива была учащаяся молодёжь, люди же старшего поколения в большинстве своём оставались чужды эстетике символизма. Так или иначе, аудитории были «переполнены слушателями, все места и вверху и внизу были заняты, даже в проходах не оставалось пустого места».
Обзоры выступлений в прессе также были двузначными: кто-то не принимал этого совершенно, кто-то писал как о красивом вымысле, и каждый укорял лектора в его нежелании хоть как-то установить контакт с публикой, в том, что он даже не пытался внести оживление, энергию в свою лекцию, отчего даже самые интересные идеи расстворялись, не дойдя до сердца пришедших. А чтение стихов Игорем Северяниным, завершавшим лекции Сологуба в первом турне, вообще рассматривалось обозревателями, как намеренное издевательство над литературой и слушателями.
Сологуб решил своей лекцией высказать исповедание символизма […] и произнёс суровую и мрачную речь, несмотря на то, что он говорил о несущейся в пляске деревенской девушке, символизирующей жизнь; и сколько девушек, слушая это, думали о себе, о своих девичьих возможностях и радостных праздниках. Но увидели ли они за образом этой опьяненной плясуньи - лицо смерти, фон смерти - томительного небытия? […] Да! Глубока была пропасть между этим невесёлым человеком и молодостью, - неуверенно, или равнодушно, рукоплескавшей ему. (Владимир Гиппиус, 1913)
Cологубу, внимательно отслеживавшему в прессе все замечания о себе, были известны такие оценки лекции, но менять что-либо в характере выступлений он не собирался!  Турне были возобновлены, после летнего отдыха, в октябре—декабре 1913 года (Москва, Орёл, Курск, Житомир и др.) и продолжились вплоть до весны 1914 года (Новгород, Рига, Воронеж, Тамбов, Саратов, Казань, Кишинёв, Херсон, Вологда и др.). В мае 1914 года Сологуб прочитал лекцию в Берлине и Париже. В сокращённом варианте «Искусство наших дней» было прочитано 20 января 1914 года на диспуте о современной литературе в зале Калашниковской биржи в С.-Петербурге. Стенограмма выступления несколько дней спустя появилась в печати; полный же текст лекции был опубликован в «Русской мысли» в ноябре 1915 года. Турне были возобновлены, после летнего отдыха, в октябре—декабре 1913 года (Москва, Орёл, Курск, Житомир и др.) и продолжились вплоть до весны 1914 года (Новгород, Рига, Воронеж, Тамбов, Саратов, Казань, Кишинёв, Херсон, Вологда и др.). В мае 1914 года Сологуб прочитал лекцию в Берлине и Париже. В сокращённом варианте «Искусство наших дней» было прочитано 20 января 1914 года на диспуте о современной литературе в зале Калашниковской биржи в С.-Петербурге. Стенограмма выступления несколько дней спустя появилась в печати; полный же текст лекции был опубликован в «Русской мысли» в ноябре 1915 года.
Подводя итог, поездки можно в целом назвать удавшимися — Сологуба встретил большой успех во многих городах России, — особенно благодаря учащейся молодёжи. После лекции приходили, забрасывали вопросами, брали автографы. Интересно отметить, что к тому времени среди читателей Сологуба появились и ярые поклонницы его творчества, воспринявшие его в самых разных аспектах и откровенно писавшие Фёдору Кузьмичу:
Я видела Вас всего один раз. Я не говорила с Вами. Это было 4-го марта прошлого года. Только вошла и посмотрела. И когда Вы посмотрели на меня своими проницательными глазами — мне стало жутко. На мгновенье остановилось сердце, и какая-то тяжесть заволокла душу. Я не могла говорить. […] Все слова пропали; осталось только огромное чувство счастья от сознания Вашего присутствия. (Елизавета Ефроимская, 1913)
* * *
Научите меня жить, скажите, Светлый, что мне делать, "в поле моём не видно ни зги". И не говорите мне:
«Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал, как помогу?»
Вы можете, Вы должны, потому что вы учитель жизни и я повинуюсь Вам.
* * *
Фёдор Сологуб, склоняю голову в знак любви и благодарности к Вам. Властно зовёт к себе радость мгновенных болей бичующих. Голова склоняется в знак любви и благодарности к Вам. Мне 40 лет. Моя плоть ещё не знала радостей. Вы первый мне сказали про них, дав порыв к боли-экстазу. […]…Федор Сологуб, дайте мучительное счастье. Позовите меня. (Наталия З., 1909)
В архиве Сологуба сохранилось немало подобных писем. Такое ли влияние рассчитывал оказать писатель? А это была неотъемлемая часть его читательской аудитории.
* * *
Поездки Сологуба принесли и более весомое сокровище, чем пропаганда символизма, а именно — серию стихотворений, написанных в форме триолета (классический триолет состоит из восьми стихов, в котором первый стих воспроизводится буквально в четвёртом стихе, при этом первый и второй стихи повторяются без изменений в седьмом и восьмом стихах; однако эти повторы не подходят под тип обособленного рефрена, а тесно сплетаются с тканью стихотворения).
Печальный аромат болот
Пророчит радости иные,
Быть может, злые и больные.
Печальный аромат болот
Отраду травную прольет
В сердца усталые и злые.
Печальный аромат болот
Пророчит радости иные.
(6 марта 1913,
Вагон. Новобелица — Зябровка)
Неизвестно, что заставило поэта обратиться к столь редкой стихотворной форме, однако именно Сологуб возродил триолет, почти не использовавшийся в отечественной поэзии со времён Карамзина. Первые триолеты были написаны в первый же день лекционного турне. В последующие дни и месяцы триолеты сочинялись почти всё свободное от лекций и встреч время: в вагонах, гостиницах, ресторанах и даже в дорожных колясках. Всего, с 5 марта по 30 декабря 1913 года, Сологуб написал более ста восьмидесяти триолетов, большинство из которых вошло в книгу «Очарования земли: Стихи 1913 года», выпущенную в составе Собрания сочинений изд-ва «Сирин» (XVII том, 1914).
Триолеты явились своего рода путевыми заметками («Смотришь в домы, смотришь в лица, смотришь в души и в сердца. // Петли мудрых сетей вяжешь, вяжешь, вяжешь без конца», из «Посвящения»), что позволило разбить книгу на множество разделов: «Города», «Отравы», «Мечта», «Личины», «Творчество», «Дни», «Поэты» и прочие. Мотивы открывающего раздела «Земля родная» станут преобладающими в творчестве Сологуба последующих лет (в связи с войной);  в разделе помещено и часто цитируемое, как «пророческое», стихотворение «Каждый год я болен в декабре...», заканчивающееся строчками «Тьма меня погубит в декабре // В декабре я перестану жить». В раздел «Поэты» вошли триолеты, посвящённые В. Иванову, В. Брюсову, М. Кузмину и Г. Чулкову, при этом два стихотворения были исключены — триолеты А. Блоку и И. Северянину (о нём см. выше). К творчеству друг друга Блок и Сологуб относились с неизменным интересом и уважением, но личность поэта «Снежной маски» со временем стала вызывать в Сологубе стойкое неприятие, отчего его высказывания о Блоке почти всегда носили нарочито вызывающий характер. Но по какой причине Сологуб тогда исключил триолет из состава книги малопонятно. в разделе помещено и часто цитируемое, как «пророческое», стихотворение «Каждый год я болен в декабре...», заканчивающееся строчками «Тьма меня погубит в декабре // В декабре я перестану жить». В раздел «Поэты» вошли триолеты, посвящённые В. Иванову, В. Брюсову, М. Кузмину и Г. Чулкову, при этом два стихотворения были исключены — триолеты А. Блоку и И. Северянину (о нём см. выше). К творчеству друг друга Блок и Сологуб относились с неизменным интересом и уважением, но личность поэта «Снежной маски» со временем стала вызывать в Сологубе стойкое неприятие, отчего его высказывания о Блоке почти всегда носили нарочито вызывающий характер. Но по какой причине Сологуб тогда исключил триолет из состава книги малопонятно.
Стихия Александра Блока —
Мятель, взвивающая снег.
Как жуток зыбкий санный бег
В стихии Александра Блока.
Несемся,— близко иль далеко? —
Во власти цепенящих нег
Стихия Александра Блока —
Мятель, взвивающая снег.
(28 декабря 1913,
СПб.)
Вторая часть книги состояла из разных стихотворений 1913 года, написанных вне формы триолета, между которыми были «Жуткая колыбельная», «Мудрец мучительный Шакеспеар…», «Жизни, которой не надо…».
* * *
Успех лекций подтолкнул Фёдора Сологуба расширить свою культуртрегерскую деятельность, результатом чего стало основание своего собственного журнала и общества «Искусство для всех».
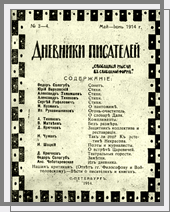 Журнал «Дневники писателей» был задуман «для своих», — как небольшой альманах произведений созвучных Сологубу авторов (среди них — А. Блок, М. Кузмин, И. Рукавишников). Очевидна преемственность назначения журнала и по названию и по назначению — от журнала Достоевского «Дневник писателя» (1873—1881). Как и Достоевский, Сологуб, решил использовать свою известность и определённый авторитет для пропаганды своих идей. Самому Сологубу это дало возможность высказываться краткими заметками о заинтересовавших его событиях. Анастасия Чеботаревская, принимавшая в издании самое активное участие, тоже писала обо всём, что ей вздумается, оправдывая девиз журнала: «Свободные мысли — в свободной форме». Первый номер «Дневников писателей» вышел в свет в марте 1914 года, второй — в апреле, а следующий, сдвоенный (№№ 3—4), появился только в июне, поскольку Сологубы два месяца отсутвовали в России. И только успел выйти этот номер, как разразилась мировая война, ставшая причиной прекращения журнала: 5-6 номера, заявленные в анонсе, так никогда и не вышли. (Интересно, успел ли Сологуб что-нибудь подготовить для этих номеров?) Журнал «Дневники писателей» был задуман «для своих», — как небольшой альманах произведений созвучных Сологубу авторов (среди них — А. Блок, М. Кузмин, И. Рукавишников). Очевидна преемственность назначения журнала и по названию и по назначению — от журнала Достоевского «Дневник писателя» (1873—1881). Как и Достоевский, Сологуб, решил использовать свою известность и определённый авторитет для пропаганды своих идей. Самому Сологубу это дало возможность высказываться краткими заметками о заинтересовавших его событиях. Анастасия Чеботаревская, принимавшая в издании самое активное участие, тоже писала обо всём, что ей вздумается, оправдывая девиз журнала: «Свободные мысли — в свободной форме». Первый номер «Дневников писателей» вышел в свет в марте 1914 года, второй — в апреле, а следующий, сдвоенный (№№ 3—4), появился только в июне, поскольку Сологубы два месяца отсутвовали в России. И только успел выйти этот номер, как разразилась мировая война, ставшая причиной прекращения журнала: 5-6 номера, заявленные в анонсе, так никогда и не вышли. (Интересно, успел ли Сологуб что-нибудь подготовить для этих номеров?)
Голос Сологуба, вынужденный замолкнуть в собственном журнале, с бóльшим резонансом раздался в другом издании – «Биржевых ведомостях», в которых с конца 1914 года Сологуб будет постоянно публиковать статьи на темы войны и искусства.

XVI
ВОЙНА
Сологуб и Первая Мировая война — Новые книги — Общественная деятельность
(1914—1917)
 ЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ Фёдор Сологуб воспринял как роковое знамение, могущее принести множество поучительных, полезных плодов для русского общества. Писатель отнюдь не приветствовал всеевропейскую бойню, но война — такое дело: раз напали, — надо защищаться и победить, чтобы доказать свою правду: ЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ Фёдор Сологуб воспринял как роковое знамение, могущее принести множество поучительных, полезных плодов для русского общества. Писатель отнюдь не приветствовал всеевропейскую бойню, но война — такое дело: раз напали, — надо защищаться и победить, чтобы доказать свою правду:
Не армии сражаются, — вооружённые народы встретились, и взаимно испытывают друг друга. Испытывая противника, попутно испытывают путём сравнения и самих себя. Испытывают людей и порядки, строй жизни и склад своих и чужих характеров и нравов. Вопросом о том, кто такие они, острится вопрос о том, кто же мы сами. (Из статьи «Завоевание правды», 1915.)
Мы вышли в решительный бой с врагом очень сильным, и это — враг не случайный, наш роковой и надолго враг. Потому что Германия — совершенно другой, сравнительно с нами, мир. Против нашей восточной, мистической, религиозной души встала воплощённая в Германии механизированная душа, антихристианская, рационализованная по-машинному, душа без вещих видений прозрений, но с необычайной силой материализма, душа язычников Гёте, Канта, Ницше и всех этих бесчисленных блестящих, но холодных умов. (Из статьи «Мира не будет», 1914)
 — как сказано выше, Сологуб принял войну не только как политический вызов, в войне он видел очистительный огонь, средство пробуждения в русском народе сознания нации, сильной и волевой, способной сдвинуть вековую крышку германского культурного гроба, в котором оказались русская мысль и искусство. И ведь, признаёт Сологуб, не только подвинуть, но и освободиться от германской культуры «страшно трудно, не под силу одному поколению». Задумываясь о том, «кто же мы сами», Сологуб продолжает развивать мысль, начатую ещё Достоевским в его последнем «Дневнике писателя», заключавшуюся в том, что Запад-то никогда Россию не примет, и русские не должны стараться что-то ему доказать, а должны жить и строить свою страну самостоятельно, беря с Запада лишь полезные технологии: — как сказано выше, Сологуб принял войну не только как политический вызов, в войне он видел очистительный огонь, средство пробуждения в русском народе сознания нации, сильной и волевой, способной сдвинуть вековую крышку германского культурного гроба, в котором оказались русская мысль и искусство. И ведь, признаёт Сологуб, не только подвинуть, но и освободиться от германской культуры «страшно трудно, не под силу одному поколению». Задумываясь о том, «кто же мы сами», Сологуб продолжает развивать мысль, начатую ещё Достоевским в его последнем «Дневнике писателя», заключавшуюся в том, что Запад-то никогда Россию не примет, и русские не должны стараться что-то ему доказать, а должны жить и строить свою страну самостоятельно, беря с Запада лишь полезные технологии:
Мы — не Запад, и никогда Западом не будем. Мы — Восток религиозный и мистический, Восток Христа, предтечами которого были и Платон, и Будда, и Конфуций. Трагедию нашу мы должны разрешить в том, чтобы над крушением европейской ориентации вознести то новое слово, которое мы давно обещаем миру, но которое уже давно дано нам в мистическом миропостижении Востока. Довольно нам ориентироваться на Запад, пора нам найти в самих себе нашу правду и нашу свободу, опереться на исконное своё, вспомнить древние наши были, оживить в душе торжественные звоны вечевых колоколов.
...Культ вещей порабощает европейца, и держит его в очень тесных рамках буржуазного бытия. Мы свободны от этого рабства вещам, и должны остаться свободными. Это не значит, конечно, что нам следует отвергнуть материальную культуру Европы. Технику и законодательство, манеру строить дороги и дома и строить даже внешние формы жизни, — всё это будем брать по-прежнему или даже ещё энергичнее, но всему этому дадим только служебное значение. (Из статьи «Выбор ориентации», 1914)
Однако к 1917 году Сологуб горько разуверился в таком мистическом свойстве войны для России, убедившись, что никакого духа в этой войне нет и в помине в русском обществе, — дай Бог, чтобы смогли закончить её достойно, — Сологуб весьма переживал о международном облике России относительно выполнения ею союзнических обязательств в свете возможного поражения или ещё хуже — сепаратного мира. «Война не союзниками нашими начата, а нами, — писал Сологуб, — не мы вступили в неё ради верности союзному договору, а Франция, а за нею и другие державы, и уже это одно налагает на нас обязанность сугубой осторожности по отношению к нашим союзникам» (после октября 1917 года все эти опасения стали страшной явью, когда большевисткое правительство подписало сепаратный мир и предало всех союзников России).
В статье «Гадания», опубликованной 22 июня 1915 года, Сологуб уверенно предупреждал о следующей войне с Германией, которая будет не за горами. И потому особенно надеялся на полное и катастрофическое поражение Германии («Сокрушить Германию нам придётся против желания нашего, не потому что мы хотим распри, — мы — народ, воистину миролюбивый и совестливый, — а только потому, что германец не даст нам мира никогда. Он стал силён и стремится к всемирному господству»).
По поводу «восточного вопроса» (на стороне Германии и Австро-Венгрии воевала Османская империя) Сологуб полагал, что взятие Константинополя было бы большой наградой России в войне, — но не в смысле символа могущества Российской Империи, — а исходя из практических экономических интересов России и Европы, требовавших контроль над черноморскими проливами.
...
Нет, пятому не быть столетью
С тех пор, когда на горе нам
Магометанской стал мечетью
Царьградский и вселенский храм.
Тебе, тебе, моя Россия,
В мечте мерцая ярче звезд,
Юстинианова София
Опять святой поднимет крест,
И древние воскреснут фрески,
Свой свергнув известковый плен,
И расточатся арабески
В таинственном и ясном блеске
С Софийских озаренных стен.
Опять святой надеждой полны,
Опять мы верою сильны.
Плещитесь, голубые волны!
Свершайтесь, радостные сны!
(«У Босфора», 1915)
Помимо собственно войны Сологуб в своих статьях упорно развивал мысль о любви к России. Кажется странным — народ и так воюет, проливает кровь, по стране миллионы молющихся за спасение отечества... Но когда памятные ликования лета 1914 года были вскорости погашены серьёзностью действий противника, обнажилась странная вещь: значительная часть российского общества — от крестьянства до интеллигенции — оказалась холодной и безучастной к своему отечеству. Сологуб видел в этом серьёзную опасность и неутомимо пытался пробить апатию и, зачастую, ненависть к родине в сердцах её жителей. Сологуб, прекрасно знавший Россию, не смотрел на неё сквозь розовые очки, вполне ведал и о многом нехорошем, что творилось в стране, но он просто любил её.
Только любовь подвигает человека к совершению великих дел, любовь, чувство живое и пламенное, а не рассудочное чувство справедливости. Только любовь к отечеству нашему, любовь, исступлённо горящая, праведный патриотизм гражданина может вывести нас из тех многообразных трудностей, которых нам не миновать, как бы хорошо ни складывались наши дела.
Но патриотизм наш не даётся нам легко. Любовь к отечеству у нас в России есть нечто трудное, почти героическое. Слишком многое должна преодолеть она в нашей жизни, такой ещё нелепой и ужасной. (Из статьи «С тараканами», 1916)
Иногда Сологуб-публицист приходил в откровенное радражение невидением и отторжением очевидного и тогда с мрачным сарказмом писал:
Не надо сердиться на нас за то, что мы не патриоты. Это от большой любви к человечеству и от незнания. Нас надо пожалеть: слишком поверив сделанным в Германии теориям, мы не Россию губим, она бессмертна, потому, что Пушкин не умрёт даже и тогда, когда жители провинции Москау будут говорить по-немецки, мы губим себя, вот тех, которые живут теперь: на войне нас бьют, после войны нас будут обирать, и, кроме того, мы, являясь куда угодно в люди, изопьём полную чашу горького презрения.
Пафос военной публицистики Сологуба лёг в основу лекции «Россия в мечтах и ожиданиях», с которой Сологуб в 1915—1917 гг. объездил всю Российскую Империю, от Витебска до Иркутска. Как и предыдущая, «Искусство наших дней», новая лекция вызывала прямо противоположные реакции. В провинциальной прессе вновь преобладали прохладные оценки выступлений. Многие пожимали плечами — зачем Сологубу понадобилось возрождать старые славянофильские идеи, — это многие из тех, кто Россию не понимал и не любил. Нередко лекции запрещались. Но большинство выступлений прошли с успехом, и как всегда, особенно чутка была молодёжь. «В антракте, — писал Сологуб, — один взволнованный мальчик горячо благодарил: он первый раз (буквально!) слышал, что можно любить Россию».
Поездки Сологуба по стране вероятно продолжилось бы и в 1918 г., если бы не политические события 1917 года, перечеркнувшие не только их возможность, но и многое из построений Сологуба.
На войну Фёдор Сологуб также откликнулся книгой стихов «Война» (1915) и сборником рассказов «Ярый год» (1916), которые получили крайне вялые рецензии в прессе.
«Война», как и гласило название, была собранием тематических стихотворений, опубликованных в первые месяцы войны. Открывалась книга подлинным гимном «Да здравствует Россия!», и далее на страницах разместились «Запасному жена», «Обстрелян», «На подвиг», «Бой-Скоуту», «Невесте воин», «Часовой»... — всего 35 стихотворений, из которых каждое имело заголовок, — что вообще крайне редко для поэтических сборников Сологуба, — и среди предыдущих книг была лишь одна такая, весьма схожая и по назначению и по направленности — 5-й книга стихов «Родине», 1906 года.  Но если «Родине» была вполне искренним и сильным сборником, то «Война» слабо отвечала своему назначению. Возможно, это объясняется тем, что Фёдор Сологуб — поэт сугубо своих тем и настроений. («Сологуб — прихотливый поэт и капризный... — отмечал ещё И. Анненский. — Как поэт, он может дышать только в своей атмосфере».) Всякие сознательные отпадения от своего лирического мира были рискованными, что осознавал и сам Сологуб (недаром у него даже была своя тематическая картотека своей поэзии) Если же события внешнего мира настолько увлекали поэта, что подчиняли внутреннею поэтическую систему, то стихи выходили сильными и глубокими (как, например, в случае со стихами на события 1905 и 1918 гг.), в противном случае они вызывали диссонанс с общей лирикой поэта. Но если «Родине» была вполне искренним и сильным сборником, то «Война» слабо отвечала своему назначению. Возможно, это объясняется тем, что Фёдор Сологуб — поэт сугубо своих тем и настроений. («Сологуб — прихотливый поэт и капризный... — отмечал ещё И. Анненский. — Как поэт, он может дышать только в своей атмосфере».) Всякие сознательные отпадения от своего лирического мира были рискованными, что осознавал и сам Сологуб (недаром у него даже была своя тематическая картотека своей поэзии) Если же события внешнего мира настолько увлекали поэта, что подчиняли внутреннею поэтическую систему, то стихи выходили сильными и глубокими (как, например, в случае со стихами на события 1905 и 1918 гг.), в противном случае они вызывали диссонанс с общей лирикой поэта.
Природа военной поэзии — возбудить и поддержать патриотический дух — видимо, очевидна была не всем, что вынудило Сологуба позже пояснить:
Когда-то в начале войны, в стихотворении «Утешение Бельгии», предсказал я, что будет нашими войсками занят «заносчивый Берлин». Предсказание, что и говорить, неудачное, но почему русские газетчики так радуются неудачливости моей в этом отношении, я, ей-Богу, не понимаю, я верил в мою Россию, и желал её счастья и славы, и разве это уж так глупо и смешно?
[…] И мне даже кажется, что если германские публицисты станут цитировать мои стихи о взятии заносчивого Берлина, то их улыбка над моим неудачным пророчеством не будет такою злою, как смех русских собратьев моих. Для них ведь, для германцев, слова о славе, достоинстве и пользе отечества не пустые слова, и они поймут русского поэта, который, несмотря ни на что, всё-таки верит в отечество и в его творческие силы.
Можно было бы даже предположить, что Сологуб писал все эти стихи с иронией. Ведь не раз менял поэт плюсы на минусы и обратно в своих произведениях, дабы получить должный эффект. Самая оценка книги была бы совершенно поколеблена. Более того, поразительно то, что половина стихотворений была написана десятилетия ранее, и лишь ныне была переделана с изменениями в сторону военной тематики. Именно эти «старые» стихи и вышли лучше всего в книге.
Осенняя могила
Осень холод привела,
Листья на землю опали,
Мгла в долинах залегла,
И в лесу нагие дали.
Долго бились и ушли.
Там, где брошена лопата,
Под бугром сырой земли,
Труп германского солдата.
Безвременник луговой,
Распускает цвет лиловый
Стебель тонкий и нагой
Над могилою суровой.
Где-то плачет, плачет мать,
И жена в тоске унылой.
Не придут они сломать
Цвет, возникший над могилой.
Более удачным вышло следующее поэтическое собрание Сологуба — «Земля родная» (1916), скомпонованное из стихотворений разных лет, включая новейшие. Военная тематика была приглушена, уступив лирике, наполненной любовью к родной стране.
Следом за «Войною» была издана почти такая же бледная книга рассказов «Ярый год». Сюжеты большинства историй вышли искусственными и вялыми, нередко окрашенными сентиментальностью, столь несвойственной Фёдору Сологубу. Рассказы были призваны поддержать дух и укрепить надежду на победу («Визит», «Дед и внук», «Незамерзающий мальчик» и др.). Характерен рассказ «Сними траур», в котором мальчик дарит матери свой портрет, написанный светлыми и радостными красками, однако мать в трауре — погиб её муж. Сын говорит, чтобы она не носила траур: «когда люди умирают так доблестно, не надо носить по ним траур. Сними траур, не печалься. – отец будет рад, что его смерть не сломила тебя. И я не хочу носить траура. Я хочу быть сильным, радостным и смелым». Как на портрете. Мать не соглашалась, и тогда Леонид побежал голый на улицу, угрожая стоять там до тех пор, пока мама не одела бы праздничного платья. Мать бросилась его останавливать и согласилась.
В книгу вошёл замечательный (довоенный) рассказ, о Германии — «Ошибка гофлиферанта», весьма кстати, в год войны, продемонстрировавший немецкую холодность и принципиальность, с которой теперь напрямую столкнулась Россия. В результате недоразумения, после долгого пития, принципиальный и знающий себе цену промышленник оказался не в своей квартире и был вынужден заплатить за беспокойство такого же принципиального хозяина дома. На следующий день гофлиферант встретился со своим племянником и дал своё согласие на брак, которому долго противился, решив, что «всякий человек может один раз в жизни совершить ошибку, только надо, чтобы ему было чем заплатить за эту ошибку». По его мнению, ошибка племянника была его неравная любовь, но тот сам позже заплатит за эту ошибку, — как сам он заплатил за свою, и как за свои ошибки заплатит Россия.
Тему войны затронули также отдельно изданные повесть «На острие меча» (1914) и пьеса «Камень, брошенный в воду (Семья Воронцовых)» (1915).
* * *
Желая как можно больше расширить участие в общественно-культурной жизни России, Фёдор Сологуб основал вместе с Чеботаревской общество «Искусство для всех». Его задачей было распространение и развитие всех родов искусств в широких народных массах. Обществом устраивались многочисленные вечера искусства, первый из которых, посвящённый героическому искусству, прошёл 19 декабря 1915 года в зале Тенишевского училища в Петрограде.
Сологуб также принимал участие в созданном совместно с Леонидом Андреевым и Максимом Горьким «Российском Обществе по изучению еврейской жизни». Еврейский вопрос всегда интересовал писателя: ещё в статьях 1905 года Сологуб призывал к искорениению всякого официального антисемитизма (по его мнению, бессмысленного и унижающего Российское государство), а в 1908 году Сологубом был начат роман «Подменённый» (не завершён) — на тему взаимоотношений евреев и рыцарей в средневековой Германии, — в процессе подготовке которого писатель серьёзно занялся культурой иудаизма. 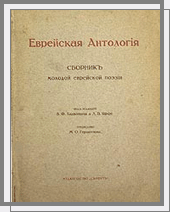 Зимой 1915 года Сологуб от имени Общества ездил на встречу с Григорием Распутиным, дабы узнать о его отношении к евреям (почему тот превратился из ярого антисемита в сторонника еврейского полноправия). Одним из плодов «Общества по изучению еврейской жизни» стал сборник «Щит» (1915), в котором были опубликованы статьи по еврейскому вопросу представителей разных направлений русского общества (известные писатели, ученые, политики, экономисты), в том числе и статьи самих учредителей общества (и редакторов сборника), Сологуба, Андреева и Горького. В 1916 году Обществом был подготовлен ещё один сборник — «Евреи на Руси», но издание не состоялось из-за Февральской революции. Сологуб также участвовал в качестве переводчика в сборнике «Еврейская антология» (1917), для которого он перевёл несколько стихотворений Х. Н. Бялика и И. Каценельсона. Зимой 1915 года Сологуб от имени Общества ездил на встречу с Григорием Распутиным, дабы узнать о его отношении к евреям (почему тот превратился из ярого антисемита в сторонника еврейского полноправия). Одним из плодов «Общества по изучению еврейской жизни» стал сборник «Щит» (1915), в котором были опубликованы статьи по еврейскому вопросу представителей разных направлений русского общества (известные писатели, ученые, политики, экономисты), в том числе и статьи самих учредителей общества (и редакторов сборника), Сологуба, Андреева и Горького. В 1916 году Обществом был подготовлен ещё один сборник — «Евреи на Руси», но издание не состоялось из-за Февральской революции. Сологуб также участвовал в качестве переводчика в сборнике «Еврейская антология» (1917), для которого он перевёл несколько стихотворений Х. Н. Бялика и И. Каценельсона.

XVII
ФЕВРАЛЬ, ОКТЯБРЬ И СЕНТЯБРЬ
Февральская революция и Октябрьский переворот — «Алый мак» — Попытки выехать заграницу — Смерть Ан. Чеботаревской — Последние книги
(1917—1922)
УТРОМ 27 ФЕВРАЛЯ 1917 года, когда войска в Петербурге уже братались с народом, в одном из кабинетов огромнаго помещения больших «Биржевых Ведомостей» (перваго утренняго издания) собрался чуть ли не весь состав сотрудников.
В числе тридцати—сорока участников беседы, происходившей в редакции, был один человек, который не произнёс ни слова. Он стоял у печки, грея руки, заложенныя за спину. Невысокаго роста с лицом самым обыкновенным, ничем не выдающимся, похожий на уезднаго учителя или земскаго работника. Он слушал говоривших и споривших, не проявляя ничем своего отношения к событиям. Это был Сологуб. Он собрался уже уходить, когда его кто-то спросил:
— А вы что думаете?
Сологуб сразу ответил:
— Произойдёт величайшее потрясение. Солдаты разойдутся по домам, крестьяне заберут землю, рабочие прогонят фабрикантов. Власть будет у тех, кто разрешит массам произвести это разрушение России. И будет много крови.
Сказал и ушёл. Впоследствии многие хвалились удачными прорицаниями, которых, впрочем, не делали. Сологуб никогда никому не напоминал о своём прогнозе. Он один угадал, ошибались буквально все. (Из воспоминаний Н. Радина)
Февральская революция, обрушившая монархию и создавшая предпосылки для демократического преобразования Российской империи, Фёдором Сологубом была встречена с воодушевлением и большими надеждами. «Торжественные дни, литургийное настроение! — начинает он одну из первых мартовских статей. — Решительность, бесповоротность и быстрота того, что произошло в эти дни, направляет мысль к тому, чтобы признать в совершившемся деяние не только государственно необходимое, но и обвеянное духом несомненной святости, благословенное явственно ощущаемым наитием святого Духа, литургийно претворяющего косную плоть нашего застойного, разлагающегося быта в сладчайшую радость земного светлого бытия».  Хотя в душе, как подтверждает приведённое выше воспоминание, Сологуб и сознавал слишком хорошо исторический уклон России, «декадент» и «пессимист» всегда оставался мечтателем, верящим в преображение, тем более, что начало революции было поразительным: почти без крови и политического хаоса. Такой характер перемен даже вдохновил поэта на составление проектов Российской конституции и устава Учредительного собрания и подтолкнул к ещё более активной общественной деятельности. Его, как и остальных деятелей культуры, волновало, что будет с искусством в новой ситуации, кто его будет курировать и от чьего имени. Так 12 марта 1917 года образовался Союз Деятелей Искусства, живейшее участие в работе которого принял Фёдор Сологуб. Он предвидел, что ход событий наиболее сокрушительно отразится на тех, кто составляет собой мозг страны — представителей культуры, ещё шире — интеллигенции, предлагал даже сплотиться в «третий» класс, который мог бы противопоставить себя двум основным силам революции — буржуазии и пролетариату: Хотя в душе, как подтверждает приведённое выше воспоминание, Сологуб и сознавал слишком хорошо исторический уклон России, «декадент» и «пессимист» всегда оставался мечтателем, верящим в преображение, тем более, что начало революции было поразительным: почти без крови и политического хаоса. Такой характер перемен даже вдохновил поэта на составление проектов Российской конституции и устава Учредительного собрания и подтолкнул к ещё более активной общественной деятельности. Его, как и остальных деятелей культуры, волновало, что будет с искусством в новой ситуации, кто его будет курировать и от чьего имени. Так 12 марта 1917 года образовался Союз Деятелей Искусства, живейшее участие в работе которого принял Фёдор Сологуб. Он предвидел, что ход событий наиболее сокрушительно отразится на тех, кто составляет собой мозг страны — представителей культуры, ещё шире — интеллигенции, предлагал даже сплотиться в «третий» класс, который мог бы противопоставить себя двум основным силам революции — буржуазии и пролетариату:
...Третий класс, который для себя ничего не требует и который является объектом эксплуатации обоих враждующих классов. Этот злополучный класс — интеллигенция. Та самая интеллигенция, которая подготовила, создала и воодушевила революцию, та самая интеллигенция, на которую свысока смотрит буржуазия, та самая интеллигенция, которую рабочий относит к буржуазии, за привычку к чистой жизни.
Когда буржуа и пролетарий, наконец, составят один класс, занятый изготовлением и распространением товаров, интеллигенция к этому классу не присоединится. Она же не производит товаров, а идеи и формы — не товар.
Интеллигенция станет угнетённым, низшим классом. Разрозненная теперь, жалко приписавшаяся ко всем чужим приходам, тогда она осознает свой классовый интерес и поведёт борьбу за своё место под солнцем. (Из статьи «Новый класс», 1917)
Поэтому, считал Сологуб, деятели культуры должны активно участвовать в политической жизни страны, так как представляют интересы довольно широкого круга людей. А Союз Деятелей Искусства сосредоточился на борьбе за влиняние в кабинете создававшегося министерства искусств, против наличия которого особенно выступал Сологуб. «Думаю, что забота об учреждении министерства искусства — затея праздная и вредная, — писал он тогда же. — Завести на средства трудового народа полчища новых сановников опекающих искусство, конечно, не трудно, — но деятельность этих господ для искусства будет не столько бесполезною, сколько вредною. Искусству от власти не нужно ни покровительства, ни защиты, ни денег. Одного дара просит искусство от власти: утверждения вольности искусства».
Вместе с тем, Февральская революция застала Российскую Империю в крайне сложном положении на войне; необходимо было незамедлительно проводить громадную работу по преобразованию государства, так как в стране быстро активизировались многочисленные политические группировки, пытавшиеся установить свой порядок.
...
Довольно ликовать,
Российские народы!
Давно пора ковать
Победу для свободы!
Надменный Гинденбург
Опять глядит сурово
На милый Петербург
Через окопы Пскова.
(«Довольно ликовать...», март 1917)
«Дорогие мои соотечественники, — начиналась одна из статей того времени. — Вы называете себя гражданами, Вы присваиваете себе звание, выше которого нет на земле. Гражданин! Какое хорошее слово! Но надо помнить, что оно значит...». И далее Сологуб пишет о труде и вере в самих себя и в отечество. Но какой труд и какая вера, когда кругом все только митингуют, строят проекты и наполняются усталостью от всего этого? Революция, поначалу обещавшая воплотить все так долго чаямые надежды, обернулась трагедией русской демократии, — трагедией особенно явственной с середины лета 1917 года, когда прошло упоение от свержения царской власти, и стала очевидна анархичность нового порядка. При подстрекательстве большевиков начинался развал армии, в провинции вспыхивали бунты, в столице проходили агрессивные демонстрации. Именно тогда статьи Сологуба принимают откровенно антибольшевисткий характер. Если раньше Сологуб и входил в отношения с большевиками (ох и опасная то игра была!, кто только в неё не играл из тогдашней интеллигенции и дворянства), то из позиции «общего врага» (царизм), кроме того, нельзя забывать, что Анастасия Чеботаревская была деятельно связана с революционной средой (её брат был казнён, другой был сослан, а её сестра была родственницей Луначарского). Этим и объясняются контакты Сологубов с левыми (особенно заграницей, где в 1911—1914 гг. состоялись встречи с Троцким, Луначарским и др.), концерты в пользу ссыльных большевиков. Многим они казались лишь небольшой оппозиционной партией, необходимой и довольно «оригинальной», но вряд ли кто из тогдашних спонсоров большевиков всерьёз хотел их видеть в кабинете министров или во главе государства. На фронте, особенно к осени 1917 года, положение было настолько отчаянным, что Сологуб даже предлагал самую радикальную меру: призыв в Россию китайских, японских и американских войск («В течение полугода даже наши сибирские дороги, если их отдать в управление американских инженеров и в действительную охрану американских солдат, смогут перевезти достаточно большую армию для создания трёх крепких фронтов, перед Петроградом, Москвою и Киевом. Не для защиты только, конечно, этих пунктов, но для того, чтобы идти вперёд, увлекая за собою всё ещё здоровые элементы русского войска... Один воинственный японец, или китаец, или американец, или настоящий русский солдат с успехом заменит десяток распустившихся, митингующих товарищей в серых шинелях. Заморские гости-воины будут стоить нам дорого, но без них расплата за войну обойдётся нам ещё гораздо дороже»).
Вернувшись в конце августа с дачи в Петроград, «заражённый отравою большевизма», Сологуб продолжил работу в Союзе Деятелей Искусства, в котором возглавлял литературную курию, — принимая участие в подготовке созыва Собора деятелей искусства. Но было явно не до искусства: Сологуб в своей публицистике передавал своё предчувствие беды, пытаясь возбудить гражданские чувства соотечественников, особенно власть придержащих (чуть позже Сологуб признает, что ошибся в Керенском и в генерале Корнилове: первый оказался «болтуном, проговорившим Россию», последний же был «прямым честным человеком»). Сползание России в страшную пропасть, наблюдаемое Сологубом, отразилось в заголовках его статей сентября–октября 1917 года: «Развал», «Бунт», «Сонная одурь», «Дремота». Любопытная встреча приведена в воспоминаниях Л. М. Клейнборта:
Была уже осень, канун Октябрьского переворота.
В один из таких деньков наткнулся я на него около Разъезжей улицы, где он теперь жил [на самом деле, в тот год Сологуб жил на Васильевском Острове]. В крылатке, накинутой на плечи, стоял он у лужи жидкой грязи. В стороне — какие-то груды кирпичей и камней, предоставленные ветру и дождю. Предвечерье. И посреди всего этого — индусский факир в крылатке.
— Что стоите? — поздоровался я с ним.
— В лужу смотрю. А вы не ко мне ли?
И, не дожидаясь моего ответа, предложил:
— Пойдёмте, Анастасия Николаевна будет довольна, что я вас привёл.
Заговорили о событиях. Своего мнения он не высказывал, но видно было, что каждым словом он готов поплевать — поплевать во все.
Чеботаревская, как всегда, засыпала меня вопросами. «Её величество толпа», «панургово стадо», «господин случай» не сходили с её языка. «Колышутся полотнища, — говорила она, — митинги на всех перекрёстках, а такое... разъединение, какого ни в какие времена не было. Это, конечно, было и его мнение. И мне было интересно, что скажет он сам. Ведь власть была ещё в руках Временного правительства.
— Да, задохнёмся в этом, — сказал, наконец, Сологуб угрюмо.
25 октября 1917 года изменилось всё. Исчезли не только «Биржевые ведомости», но и все значимые столичные органы печати, остались второстепенные и неполитические. Через них-то Сологуб и пытался печататься. Статьи и выступления Сологуба конца 1917 года были посвящены свободе слова, а также целости и неприкосновенности Учредительного собрания в виду угрозы разгона его или ареста части его членов (что в итоге и произошло, в первый день работы собрания). Немало статей того периода, подписанных именем Сологуба, писалось также Чеботаревской, весьма эмоционально переживавшей трагедию. Благодаря А. Измайлову, старому знакомому Сологуба по «Биржевым ведомостям», в декабре наладилось постоянное сотрудничество между Сологубом и газетой «Петроградский голос», в которой Измайлов был редактором; время от времени Сологуб печатался и других газетах, оставашихся сколько возможно независимыми — вплоть до середины лета 1918 года, когда большевики полностью закрыли все небольшевистские газеты. В отличие от созерцательного Блока, в те дни слушавшего «музыку революции» и приемлевшего расстрел священников, погромы и убийства — лишь бы продолжался столь вдохновляющий вихрь катастроф, к которым всю жизнь стремился поэт «Двенадцати», Сологуб с безоговорочной враждебностью отнёсся к большевистскому перевороту и последующему разбою.
Подводя итоги Февральской революции и задумываясь о будущем, Сологуб горько констатировал:
А давно ли были те дни, когда все мы «в надежде славы и добра вперёд глядели без боязни»? Как радостен был для нас месяц март уходящего в вечность года! Как вдруг стали все со всеми приветливы и ласковы, точно и в самом деле все мы вошли в новую землю под новыми небесами и увидели светила нового мира, никогда и ничем не затмеваемые! Чудо преображения, казалось многим из нас (и мне в том числе), совершилось с русской жизнью и с русской душой, и там, где была дичь и глушь, вдруг вознеслась великая, светлая гармония.
Да и было, по правде сказать, чему радоваться. Завоевания тех дней были неизмеримо велики, — быть может, они были больше, чем мы все того заслуживали по прежней тёмной жизни нашей. Мы получили такую степень свободы, какой земля ещё не знала. И что же мы сделали со свободой нашей, и с самой нашей родиной? И где же все светлые завоевания великих дней конца февраля и начала марта? Нет у нас ныне даже и того, в чём не отказывало нам царское самодержавие, и мы, погнавшиеся за слишком многим, растеряли и то, что раньше имели, и уже нельзя про нас сказать того, что мы сидим у разбитого корыта, как жадная и алчная старуха из пушкинской сказки, — та хоть своё-то, прежнее, худенькое, разбитое корыто всё-таки сберегла. А мы и того сберечь не умели, что у нас уже было, что завоёвано было нашей первой революцией 1905 года.
Не Бог знает, что за сокровище было завоёвано, но всё же оно было, и только теперь мы узнали, то это была не реальная ценность, не корыто, пусть даже разбитое, а так, что-то призрачное, один из многих буржуазных предрассудков. А потом, когда станем приводить в известность, что у нас было и что осталось, пожалуй, окажется, что не досчитаемся мы и многого из того, что мы наследовали от далёких предков наших.
Есть ценности, есть слова и понятия, о которых в наши дни и подумать страшно. Честь национальная, честность личная, доблесть, верность, любовь к отечеству, чувство личного и коллективного достоинства, мужественная готовность отвечать за свои поступки и за обязательства предков наших, и многое, многое в этом порядке ценностей, — как станем мы их пересматривать, в каком виде всё это предстанет поражённому взору нашему? Или мы обо всём этом и заботиться не станем? Потомству нашему предоставим разбираться? То-то славное наследство оставим мы детям нашим! Будет им за что поблагодарить отцов! А нам самим осталось что? (Из статьи «Широта», 24 декабря 1917)
В живых выступлениях и публицистике Сологуб не просто противостоял новой власти, но пытался сформировать общественное мнение, могущее повлиять на большевистских вождей в сфере культурной политики. «Угнетающие свободное слово обращают наше торжество над царизмом в национальный позор, — писал Сологуб — и долг каждого разумного и честного человека возвысить свой негодующий голос и заклеймить тёмное дело людей, пытающихся умертвить свободу» (из статьи «Свобода печатному слову!», опуб. в «Вестнике городского самоуправления» 11 ноября 1917). Всю зиму и весну 1918 года Сологуб пользовался любой возможностью опубликовать «просветительные» статьи, направленные против отмены авторского права, ликвидации Академии Художеств и уничтожения памятников. По поводу последних Сологуб от имени Союза Деятелей Искусства провёл в мае переговоры с народным коммисаром просвещения А. В. Луначарским. И хотя казалось, что результатов они не принесли, всё же памятники оставили в покое.
Примечательно, что статьи Сологуба не были проклятьями новому режиму, «плачем по земле русской» (да их бы и не напечатали), напротив, писатель упорно старался побороть отчаяние, охватившее русское общество. «А я, кто что ни говори, и теперь верю в Россию, — писал он в марте 1918 года. — И если ли даже вся она будет завоевана и разделена, и если на Урале сойдутся границы Германии и Японии, и если в городах Москау и Нейгард-ам-Волга будет звучать немецкая речь, моя вера в страну Ломоносова, Пушкина, Достоевского не умрёт». И через месяц в другой статье: «Довольно меланхолических размышлений, плача на реках Вавилонских. Не вся Россия в том узком круге, которым определяется отношение к нам культурного мира. Мы всё ещё остаемся страною, которая дала Пушкина, Лобачевского, Менделеева, и много других великих и славных, — и всё ещё страна великая наша остаётся страною неограниченных возможностей и неисчерпаемых богатств. Будем жить и добиваться счастия во что бы то ни стало!»
И всё же, несмотря на такую декларируюмую бодрость, на душе было нестерпимо мрачно. Искренняя тревога всколыхнула лирику Сологуба, и стихи зазвучали властительно правдиво, сочетая надежды и «могильное» настроение (не это ли пограничное состояние всегда присуще лучшим стихам Сологуба?).
Умертвили Россию мою,
Схоронили в могиле немой!
Я глубоко печаль затаю,
Замолчу перед злою толпой.
Спи в могиле, Россия моя,
До желанной и светлой весны!
Вешней молнии брызнет струя,
И прольются весенние сны,
И разбудят Россию мою,
Воззовут от могильных ночей!
Я глубоко тоску затаю,
Я не выдам печали моей.
(Опуб. в газ. «Петроградский голос», 24.II.1918)
В кольцах Змия
Как сладко мы тебя любили,
Россия милая моя,
И как безумно погубили
Под свист чужого соловья!
Как обратили мы нелепо,
Чужим внимая голосам,
В тоскливо-мглистый сумрак склепа
Великой славы светлый храм!
Но в напряжённых кольцах Змия,
Меня обнявших и алтарь,
В тебя, несчастная Россия,
Я верю, верю, как и встарь!
Молюсь, тоскою пламенея,
Чтобы опять ты расцвела,
Мечте мила, как Дульцинея,
И, как Альдонса, весела!
(Опуб. в газ. «Петроградский голос», 28.III.1918)
В своих знаменитых «Петербургских дневниках» этого периода З. Гиппиус писала: «Всё-таки самый замечательный русский поэт и писатель – Сологуб – остался “человеком”. Не пошёл к большевикам. И не пойдёт. Не весело ему за то живётся».
* * *
В годы революции в «Московском книгоиздательстве», уже до того выпустившим «Ярый год», вышли две новые книги Фёдора Сологуба: «Алый мак» (стихи, 1917) и «Слепая бабочка» (рассказы, 1918).
Сологуб в своих книгах стихов, как правило (с начала 1910-х), соединял два принципа составления сборника: общность настроения и хронологию — книги делились на соответствующие разделы, в которых стихи располагались в порядке их написания. «Алый мак» не был исключением и состоял из семи разделов. Для книги Сологуб извлёк из своего архива стихотворения тридцатилетней давности; создал целый раздел из четверостиший 1890-х гг., до того никогда не предназначавшихся, видимо, к печати; множество прекрасных стихов, написанных в последнее десятилетие (1911—16) составили крупные разделы «Влюблённость», «Недоля», «Отдых». «Алый мак» — вновь повёрнутый калейдоскоп, состоящий из привычных цветов, дающих другую картинку, — часть стихотворений уже была воспроизведена в предыдущих книгах; в разделе «Гроза» вообще оказались почти все стихи из книги «Война», добавлены лишь новые стихи патриотической тематики, среди них «Россия», «У Босфора», «Индусский воин», «Гадание» и др.
Россия
Ещё играешь ты, ещё невеста ты.
Ты, вся в предчувствии высокого удела,
Идёшь стремительно от роковой черты,
И жажда подвига в душе твоей зардела.
Когда поля твои весна травой одела,
Ты в даль туманную стремишь свои мечты,
Спешишь, волнуешься, и мнёшь, и мнёшь цветы,
Таинственной рукой из горнего предела
Рассыпанные здесь, как дар благой тебе.
Вчера покорная медлительной судьбе,
Возмущена ты вдруг, как мощная стихия,
И чувствуешь, что вот пришла твоя пора.
И ты уже не та, какой была вчера,
Моя внезапная, нежданная Россия.
12 марта 1915
В разделе «Плен» собраны стихи, написанные от лица собак, или скорее душ, которым случилось быть собаками (вообще, такие «ролевые» стихи у Сологуба постоянная составляющая его лирики, где нередко повествование исходит от лица животных, палачей, пажей, девушек из простонародья, цариц и т. д.).
Досталась мне странная доля,
Но я на неё не ропщу.
В просторе холодного поля
Чего-нибудь съесть поищу.
Из тинистой, вязкой канавы
Напьюсь тепловатой воды.
Понюхаю тонкие травы,
Где старые чахнут следы.
Заслышу ли топот лошадки
На гулком вечернем шоссе,
В испуге бегу без оглядки
И прячусь в пахучем овсе.
Но знаю я, будет мне праздник,
Душа моя в рай возлетит,
Когда подгулявший проказник
Мне камнем в висок угодит.
Взметнусь я, и взвою, и охну,
На камни свалюся, и там,
Помучившись мало, издохну,
И Богу я дух мой отдам.
В книгу «Слепая бабочка» (1918) вошла малая проза гражданской тематики 1914—18 гг., следом за ней в Москве успел выйти небольшой сборник старых рассказов «Помнишь, не забудешь». Тогда же другое московское издательство — М. и С. Сабашниковых — задумало издать серию «Изборников» крупнейших современных поэтов и обратилось с предложениями М. Кузмину, К. Бальмонту, А. Блоку и другим. 15 апреля 1918 года Сологуб заключил с Сабашниковыми договор на издание своего «Изборника», но оно не было осуществлено из-за возникших к концу того года финансовых затруднений издательства; композиция «Изборника», по макету автора, была воспроизведена лишь недавно в составе 8-томного Собрания стихотворений.
Последним литературным событием перед вынужденным трёхлетным перерывом стало участие Сологуба в проекте газеты «Петроградский голос», в которой в конце апреля 1918 года была задумана публикация коллективного романа, авторами которого стали бы известные писатели (по типу «Романа двенадцати», вышедшего в 1912 г. в Германии при участии Г. Эверса, А. А. Бирбама и др.). «Роман 13-ти», или «Чёртова дюжина», начался печатанием глав А. В. Амфитеатрова, затем последовали главы Сологуба, В. И. Немировича-Данченко и... на этом роман оборвался в связи с закрытием газеты в июле. Когда Сологуб вернулся в Петроград с дачи в сентябре, оказалось, что печататься было негде: большинство частных книгоиздательств и газет к тому времени задохнулось под нажимом большевиков и исчезло, остались лишь те, которые отвечали «нуждам революции».
На таком фоне осенью 1918 года в Петрограде под руководством Максима Горького образовалось издательство «Всемирная литература» с масштабной программой издания лучших произведений мировой литературы с древнейших времён до современности. Благодаря Горькому, имевшему авторитет у советских вождей, издательство получило государственную поддержку и в его состав вошли чуть ли не все литературные силы Петрограда. Такая грандиозная затея имела и другой, более насущный, смысл: хоть как-то обеспечить жизнь писателей и поэтов в условиях отсутствия возможности печататься. Фёдор Сологуб вошёл в состав редколлегии «Всемирной литературы», но сам переводить что-либо не торопился. Вместо этого почти сразу были переизданы его старые переводы — «Кандид» Вольтера, «Четыре дьявола» Г. Банга, а в 1923 году, наконец, увидели свет переводы пьес Генриха фон Клейста — «Разбитый кувшин» и «Кетхен из Гейльбронна», которые планировались для изд-ва К. Некрасова ещё в 1914 году. Почти одновременно Сологуб также вошёл в Петроградский Профессиональный Союз Журналистов, а через полтора года во Всероссийский Профессиональный Союз Писателей — уже не для того, чтобы отстаивать свои профессиональные интересы, — советская власть не только не считалась с ними и не признавала их, но и пропагандировала писателей и поэтов, как «паразитический» класс, — а в целях упрямой попытки просуществовать «поэтом», что, конечно, было не возможно. «Пайки, дрова, стояние в селёдочных коридорах... Видимо, всё это давалось ему труднее, чем кому-либо другому. Это было ведь время, когда мы, литераторы, учёные, все превратились в лекторов, и денежную единицу заменял паёк. Сологуб лекций не читал, жил на продажу вещей», — вспоминал о жизни в ту эпоху Л. М. Клейнборт. Так или иначе пайки, которые эти организации выдавали признанным «законом» литераторам, были недостаточны, и в условиях абсолютной невозможности издаваться Сологуб сам стал делать книжки своих стихов и распространять их через Книжную Лавку Писателей. Обычно от руки писались 5-7 экземпляров книги и продавались по семь тысяч рублей, некоторые из них дарились особо близким людям. Таким образом с октября 1920 по май 1921 были «изданы» «Стихи о милой жизни», «Туманы над Волгою», «Одна любовь», «Небо голубое», «Чары слова», «Кануны», «Heures mélancoliques», «Утешения», «Лиза и Колен», «Три отрока». «Heures mélancoliques» — редчайшая книжка в библиографии Фёдора Сологуба, известен лишь один экземпляр, — это стихи Сологуба на французском языке, написанные в апреле 1919 года и бывшие, вероятно, единственным опытом поэта в иноязычном стихосложении. В структуре и лексике французских стихов Сологуб очевидно опирался на поэзию Поля Верлена.
В эти трудные годы Фёдору Сологубу особенно помогли качества его характера: с детства развитая бережливость и бытовая расчётливость, — они позволили вовремя находить возможности для заработка путём литературы (сочинительство, редактирование, организация) в пределах, которые сам установил себе писатель, а именно: не быть связанным художественными и политическими декларациями в области искусства. При этом Сологубом учитывалась каждая копейка, законно причитавшаяся ему, отсюда и все эти скрупулёзно составленные договоры относительно оплаты стихов, рассказов, романов, чтения лекций. А платили Сологубу под конец 1900-х уже немало — 500 руб. за лист. В годы революции Сологуб также упорно добивался исполнения советской властью своих же обязательств. Даже получение «законных» академических пайков тоже нужно было выхлопотать — из тысячи на один город. Кроме того, в эпоху Военного коммунизма Сологубу удавалось избегать ареста и откровенной политической травли, — а ведь в те годы, кажется, не было писателя в Петрограде не отсидевшего хотя бы сутки на Гороховой, 2. В одних мемуарах рассказывается анекдотичный случай о том, как за Сологубом однажды уже тоже «приехали». Но на вопрос, проживает ли по данному адресу Фёдор Сологуб, управдом ответил отрицательно, честно заявив, что тут живёт лишь Фёдор Тетерников. Чекистам пришлось поворачивать и искать следующую жертву. Сыграла договорённость между Сологубом и управдомом. (Кстати, с 20 мая 1919 года псевдоним «Сологуб» стал официальной фамилией писателя.)
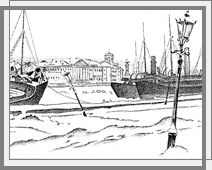 Помимо культурной катастрофы, когда на глазах ломалось всё то, что было дорого Сологубу, то, что недавно с таким трудом возводилось, не менее угнетающе действовала разруха в сфере материальной: многочасовые очереди за воблой, бесконечные хождения по рынкам в поисках обмена ценностей на еду, невозможность свободно приобрести элементарные предметы быта, унизительные прошения о выдачи пайков; всё это и многое другое выдержать было не каждому под силу. Если ещё Сологуб сурово переносил тяготы разрухи, то Чеботаревская, долго крепившаяся, больше не могла терпеть, ведь к материльным трудностям добавлялось мучительное сознание безднадёжности того пути, по которому пошла Россия — сознание, особенно ранившее неуравновешенную психику Анастасии Николаевны. Помимо культурной катастрофы, когда на глазах ломалось всё то, что было дорого Сологубу, то, что недавно с таким трудом возводилось, не менее угнетающе действовала разруха в сфере материальной: многочасовые очереди за воблой, бесконечные хождения по рынкам в поисках обмена ценностей на еду, невозможность свободно приобрести элементарные предметы быта, унизительные прошения о выдачи пайков; всё это и многое другое выдержать было не каждому под силу. Если ещё Сологуб сурово переносил тяготы разрухи, то Чеботаревская, долго крепившаяся, больше не могла терпеть, ведь к материльным трудностям добавлялось мучительное сознание безднадёжности того пути, по которому пошла Россия — сознание, особенно ранившее неуравновешенную психику Анастасии Николаевны.
Сбежать из этого ада можно было двумя способами: уехать в более обеспеченную провинцию или насовсем — заграницу. Сологубы в очередной раз поехали на дачу под Кострому, где они проводили все летние месяцы с 1915 года. Если в предыдущем, 1918, году им удалось с проблемами устроиться, то теперь, приехав на свою дачу, Сологубы обнаружили там пансион бездомных детей: рукописи, вещи, всё исчезло. Такой «сюрприз», встретивший утомлённых долгой дорогой Сологубов, вынудил их тут же написать письмо народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому, человеку глубоко противному Сологубу, но хоть как-то связывавшему мир искусства и большевистское правительство. Нарком дал «добро».
 Вернувшись в Петроград, Сологуб рассказал о «незавидном» их отдыхе в Костроме, «говорил что на Волге — непрерывные крестьянские восстания. Карательные отряды поджигают деревни, расстреливают крестьян по 600 человек зараз» (из дневниковой записи З. Гиппиус). В самом Петрограде царила насильственно созданная и поддерживаемая нищета, была запрещена торговля и любая хозяйственно-экономическая деятельность. «Электричество — два часа в сутки. Лавки закрыты. Лампы не зажжёшь — нет стёкол. В комнатах температура ниже нуля», — так описывает зимний Петроград 1919 года В. И. Немирович-Данченко. И также продолжал оставаться вопрос: что делать относительно профессиональной деятельности — литературы, заниматься которой в виду совершенного отсутствия издательских отношений было бессмысленно. Вернувшись в Петроград, Сологуб рассказал о «незавидном» их отдыхе в Костроме, «говорил что на Волге — непрерывные крестьянские восстания. Карательные отряды поджигают деревни, расстреливают крестьян по 600 человек зараз» (из дневниковой записи З. Гиппиус). В самом Петрограде царила насильственно созданная и поддерживаемая нищета, была запрещена торговля и любая хозяйственно-экономическая деятельность. «Электричество — два часа в сутки. Лавки закрыты. Лампы не зажжёшь — нет стёкол. В комнатах температура ниже нуля», — так описывает зимний Петроград 1919 года В. И. Немирович-Данченко. И также продолжал оставаться вопрос: что делать относительно профессиональной деятельности — литературы, заниматься которой в виду совершенного отсутствия издательских отношений было бессмысленно.
Вся эта невозможность существования, в конце концов, побудила Фёдора Сологуба, принципиально бывшего против эмиграции, обратиться в декабре 1919 года в советское правительство за разрешением выехать. «Доведённый условиями переживаемого момента и невыносимою современностью до последней степени болезненности и бедственности, — писал в обращении Сологуб, — убедительно прошу Совет Народных Комиссаров дать мне и жене моей писательнице Анастасии Николаевне Чеботаревской (Сологуб) разрешение при первой же возможности выехать за границу для лечения». Далее Сологуб излагает и другую причину отъезда: раз единственный труд писателя — писать, то когда этой возможности нет ввиду действий правительства, остаётся покинуть пределы влияния такого правительства, тем более, что «два года мы выжидали той или иной возможности работать в родной стране, которой я послужил работою народным учителем в течение 25 лет и написанием свыше 30 томов сочинений, где самый ярый противник мой не найдёт ни одной строки против свободы и народа...» Большевики же неохотно выпускали писателей, особенно после того, как за границей появились разгромные статьи против большевизма, написанные известными эммигрантами.
В итоге, 20 сентября 1920 года Сологуб получил вроде бы «обнадёживающее» письмо Л. Д. Троцкого:
Многоуважаемый Фёдор Кузьмич!
Я не вхожу в обсуждение Ваших замечаний об «унизительности» хлопотать о галошах и чулках в истощённой и разорённой стране и о том, будто эта «унизительность» усугубляется «литературным положением».
Что касается Вашей деловой поездки в Ревель, то по наведённым мною справкам, мне было заявлено, что препятствий к ней не встречается. Я сообщил со слов Вашего письма, что Вы не преследуете при этом целей политического характера. Мне незачем прибавлять, что то или другое Ваше содействие походу мировых эксплуататоров против трудовой республики чрезвычайно затруднило бы возможность выезда для многих других граждан.
С приветом
Троцкий.
Но за сим ничего не последовало. Через полгода Сологуб написал новое прошение, на этот раз адресованное лично Ленину. Тогда помимо Сологуба вопрос с отъездом заграницу решался с Блоком, тяжёлая болезнь которого не поддавалась никакому лечению в России. Рассмотрения по делам Сологуба и Блока затягивались. В середине июля 1921 года Сологуб, наконец, получил положительное письмо Троцкого («Вам принципиально разрешаем выезд за границу»), но отъезд опять сорвался. Владислав Ходасевич следующим образом рассказывает эту историю:
Весной 1921 г. Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить заграницу больных писателей: Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать.
Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем, как Блок — поэт революции, наша гордость, о нём даже была статья в «Таймсе», а Сологуб — ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т. д.
Копия этого письма […] была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло своё решение наизнанку: Блоку дали заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержали.
В конце концов, разрешение-таки было получено, и отъезд в Ревель был запланирован на 25 сентября 1921 года. В квартире на 10-й линии Васильевского Острова, 5 (Сологубы перехали туда в 1918 году) были собраны вещи, упакованы ящики с книгами... Но, видимо, всё было уже слишком поздно. Томительное ожидание, прерываемое несбывавшимися обещаниями, надломило психику жены Сологуба, женщины достаточно впечатлительной, склонной к психастении. Именно в это время у неё случился приступ болезни. В такие моменты следовало быть с нею. Вечером 23 сентября 1921 года, воспользовавшись недосмотром прислуги и отсутствием Фёдора Кузьмича, ушедшего для неё за бромом, Анастасия Николаевна отправилась к сестре на Петербургскую Сторону. Но не дойдя буквально нескольких метров до её дома, бросилась с Тучкова моста в реку Ждановку. Cлучайные прохожие cлышали её последние слова: «Господи, прости мне», пытались спасти её, и не смогли. Сологуб несколько дней надеялся, что это не была его жена (её тело тогда так и не нашли) и потому расклеил объявления с просьбой об информации о её возможном местонахождении. Смерть жены для Фёдора Сологуба обернулась непосильным горем, которое писатель не изжил до конца своих дней. «Такая жизнь — без неё — на что она мне?», — писал он в своих личных записках. К её памяти Сологуб будет постоянно обращаться в творчестве в оставшиеся годы.
Анастасия Николаевна дала мне всё то счастие, которое может дать самоотверженно верная жена и беззаветно преданный друг, — писал Сологуб А. Горнфельду 21 декабря 1921 года. — Мы были с нею более близки, чем бывают люди в браке. Вся моя литературная и общественная работа была объята её сотрудничеством и влиянием. В ней для меня было всегда живое воплощение моей собственной художественной и житейской совести, и я принимал её советы как неизменно верное указание того пути, который я сам себе раз навсегда начертал. Её нервы были истощены… Одним из последних тяжёлых ударов для неё была смерть А. А. Блока.
Прошла осень, за ней зима, и лишь 2 мая 1922 года, когда лёд стаял, тело Чеботаревской всплыло в Ждановке перед домом, в который за полгода до того переехал Сологуб. Последняя встреча Сологуба с мёртвой женой описана в «Сумасшедшем корабле» Ольги Форш: «На минуту окаменел. Его лицо жёлтой слоновой кости стало белым. Но поступью патриция времён упадка он важно прошествовал к трупу и, сняв с её руки обручальное кольцо, надел на руку себе».
Помимо чисто нервного перенапряжения, связанного с отъездом, современники называли ещё ряд возможных причин самоубийства. Анна Ахматова выдвинула версию, правда, никем более не подкреплённую, о неудачной любви Чеботаревской к «человеку холодному, равнодушному» («Он сначала удивлялся, часто получая приглашения к Сологубам. Потом, когда он узнал о чувствах к нему Анастасии Николаевны, перестал там бывать»). Близкий знакомый Сологубов Р. В. Иванов-Разумник предположил, что Чеботаревская «пожертвовала» собою, чтобы спасти из сети смерти Сологуба: «Скончался Блок; был расстрелян Гумилёв, — и А. Н. Чеботаревская решила, что «судьба жертв искупительных просит», намечая к гибели трёх больших русских поэтов: третьим будет Сологуб. Но его можно ещё спасти, если кто-нибудь пожертвует собой за него: вот она и бросилась в ледяную воду Невы с Тучкова моста». Следует также заметить, что психический припадок, в данном случае закончившийся самоубийством, был не первым у Чеботаревской: до этого уже было два душевных кризиса в 1910-х гг.; кроме того, самоубийством покончила её мать, а в 1925 году утопилась её сестра Александра.
После смерти жены Сологуб уже не захотел уезжать из России. «Потом он опять жил, потому что он был поэт, и стихи к нему шли. Но стихи свои читал он несколько иначе, чем при ней, когда объезжали вместе север, юг и Волгу и «пленяли сердца». Он больше пленять не хотел, он с покорностью своему музыкальному, особому дару, давал в нём публичный стихотворный отчёт, уже ничего для себя не желая. Входил он к людям сразу суровый, отвыкший» (слова О. Форш). Переживая своё одиночество, Сологуб в 1921—22 гг. написал ряд стихотворений, объединённых памятью к жене. Так составился цикл под названием «Анастасия»:
Я дышу, с Тобою споря.
Ты задул мою свечу.
Умереть в экстазе горя
Не хочу я, не хочу.
Не в метаньях скорби знойной
Брошусь в гибельный поток, —
Я умру, когда спокойный
Для меня настанет срок.
Умерщвлю я все тревоги,
И житейский сорный хлам
На таинственном пороге
Я сожжению предам.
Обозревши путь мой зорче,
Сяду в смертную ладью.
Пусть мучительные корчи
Изломают жизнь мою.
13 декабря 1921
* * *
В середине 1921 года советское правительство издало несколько декретов, ознаменовавших начало эры новой экономической политики, — были разрешены частная торговля и частное предпринимательство. Сразу же ожила издательская и типографская деятельность, восстановились заграничные связи. Стали один за другим выходить журналы, альманахи и книги писателей, томимых в годы военного коммунизма. В краткий миг относительной художественной свободы было издано немало произведений модернистского лагеря. Основным правилом цензуры было, чтобы содержание не носило антибольшевистского характера, при этом, государственную поддержку и широкое освещение получали, разумеется, поэты новой эпохи. Тогда же появляются новые книги Фёдора Сологуба: сначала в Германии и Эстонии и затем в Советской России.
Первой их этих книг Сологуба явился роман «Заклинательница змей», изданный в начале лета 1921 года в Берлине. Роман с перерывами писался в период с 1911 по 1918 годы и стал последним в творчестве писателя. Наследуя реалистическое и ровное повествование предыдущего романа, «Слаще яда», «Заклинательница змей» получилась странно далёкой от всего того, что прежде писал Сологуб. Сюжет романа свёлся к нехитрым феодальным отношениям бар и рабочих, разворачивавшимся на живописных волжских просторах, (книга писалась на даче под Костромой). «Заклинательница змей» вышла никому ненужной и о времени всем близком, знакомом и тоже ненужном теперь, — не документ уходящего быта, — а сказка о рабочих для «господ интеллигентов». Выйти бы ей раньше, в 1914 или хотя бы 1915 году... но роман появился в совершенно другую и тяжёлую эпоху и потому прошёл совершенно незамеченным. Среди литераторов ходило мнение, что роман был написан в соавторстве с Чеботаревской, если не ею одной.
 Первая послереволюционная книга стихов «Небо голубое» вышла в сентябре 1921 года в Эстонии (куда в то время пытались выехать Сологубы), в ревельском издательстве «Библиофил», также выпустившем следом отдельное издание эротической новеллы 1907 года «Царица поцелуев» с иллюстрациями Владимира Григорьева и «Сочтённые дни», последний сборник рассказов Сологуба. В «Небо голубое» Сологуб отобрал неопубликованные стихи 1916—21 гг. (лишь одно — «Я люблю весной фиалки…» — написано в 1888 году). Открывает книгу стихотворение «Измотал я безумное тело...», исполнившее не только роль предисловия к данному собранию стихов, но и действительно определившее характер значительной части сологубовской поэзии 20-х гг. — мотив принятия земли—жизни («Стихи о Милой Жизни»), — но только части, — замкнутая лирика Сологуба никогда не отдавалась какому-то одному направлению: Первая послереволюционная книга стихов «Небо голубое» вышла в сентябре 1921 года в Эстонии (куда в то время пытались выехать Сологубы), в ревельском издательстве «Библиофил», также выпустившем следом отдельное издание эротической новеллы 1907 года «Царица поцелуев» с иллюстрациями Владимира Григорьева и «Сочтённые дни», последний сборник рассказов Сологуба. В «Небо голубое» Сологуб отобрал неопубликованные стихи 1916—21 гг. (лишь одно — «Я люблю весной фиалки…» — написано в 1888 году). Открывает книгу стихотворение «Измотал я безумное тело...», исполнившее не только роль предисловия к данному собранию стихов, но и действительно определившее характер значительной части сологубовской поэзии 20-х гг. — мотив принятия земли—жизни («Стихи о Милой Жизни»), — но только части, — замкнутая лирика Сологуба никогда не отдавалась какому-то одному направлению:
Измотал я безумное тело,
Расточитель дарованных благ,
И стою у ночного предела,
Изнурен, беззащитен и наг.
И прошу я у милаго Бога,
Как никто никогда не просил:
— Подари мне ещё хоть немного
Для земли утомительной сил!
...
За таким мрачноватым воззванием следовали четыре раздела, «Утомительные дали», «Утешные ночи», «Милая Волга» (стихи, написанные на костромской даче летом 1920 года) и «Свирель». Никакой политики и внешних событий, всё очень интимно и мирно:
Порозовевшая вода
О светлой лепетала карме,
И, как вечерняя звезда,
Зажёгся крест на дальнем храме,
И вспомнил я степной ковыль
И путь Венеры к горизонту,
И над рекой туман, как пыль,
Легко навеивал дремоту,
И просыпалася во мне
Душа умершего в Египте,
Чтобы смотреть, как при луне
Вы, люди нынешние, спите.
Какие косные тела!
И надо ли бояться смерти!
Здесь дым, и пепел, и зола,
И вчеловеченные звери.
Соотношение содержания сборника и окружающей эпохи разделило критиков книги. Так, один из польских рецензентов писал: «С светлым чувством глубокаго искренняго наслаждения листаешь страницы этой ясной и свежей как роса книги. Как не похожи эти строгия, светлыя строфы на взъерошенные, лохматые стихи молодых поэтов революционной России! Грозныя события последних лет — войны, бунты, казни, пожары, убийства и голод — все это скользнуло как-то мимо филосовски замкнувшагося в дело служению чистой красоте стараго поэта». Особенно остро это ощущалось в последнем разделе книги, «Свирель». Собственно это был цикл из 27 стихотворений, стилизованных под «бержереты» — французские пасторальные песенки XVII века. «Русские бержереты» удивили читателей своей свежей простотой и «контрреволюционностью». После смерти Сологуба В. Ф. Ходасевич писал о «Свирели»: «В холоде и голоде, весной 1921 года, в двенадцать дней, написал он весёлый, задорный, в той обстановке как будто бы даже немыслимый цикл стихов: двадцать семь пьес в стиле французских бержерет. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твёрдый, неуклонный мастер, он во дни «пролетарского искусства» выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над «злою жизнью»: «Тирсис под сенью ив // Мечтает о Нанетте...». Именно это-то и вызывало раздражение у других рецензентов книги. Процитировав отрывок стихотворения из «Свирели»:
За цветком цветёт цветок
Для чего в тени дубравной?
Видишь ходит пастушок.
Он в венке такой забавный.
А зачем скажи, лужок?
На лужке в начале мая
Ходит милый пастушок
Звонко на рожке играя.
Для чего растёт лесок?
Мы в леску играем в прятки.
Там гуляет пастушок,
С пастушком беседы сладки.
...
— один из них изумляется, искренне или наигранно: «Время ли сейчас в России думать для чего растёт лесок, если по последним сведениям дрова в Петербурге стоят полтора миллиона за сажень... А уж относительно того, кто в лесу играет в прятки — так это по последним телеграммам яснее ясного...» 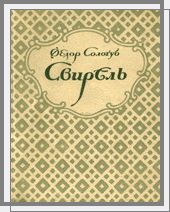 В. Я. Брюсова, всегда особенно чуткого к стилизации, с чего-то разозлило такое количество бержерет в одной книге. И всё же, бержереты, столь непредвиденные в творчестве Сологуба (скорее это можно было ожидать от М. А. Кузмина), вызвали много похвал: «Некоторая, театральная условность их вполне искупается лёгким, кружевным, певучим узором. Пастушка Клелина, пастушек Колен, Филис, Сальвендрр, лужки, ручейки, любовь свежая, ясная, языческая, и томление сладостное и отнюдь не трагическое — вот о чём поют эти свежие песни» (Б. Еверинов); «Какая чистота звука, какая крепкая законченная и устойчивая форма в последних стихотворениях Сологуба! Сложность стала простотой, и туман рассеялся в прозрачности. Его бержеретты — это французский XVIII век, увиденный глазами Пушкина» (К. В. Мочульский). В 1922 весь цикл был выпущен отдельным изданием. В. Я. Брюсова, всегда особенно чуткого к стилизации, с чего-то разозлило такое количество бержерет в одной книге. И всё же, бержереты, столь непредвиденные в творчестве Сологуба (скорее это можно было ожидать от М. А. Кузмина), вызвали много похвал: «Некоторая, театральная условность их вполне искупается лёгким, кружевным, певучим узором. Пастушка Клелина, пастушек Колен, Филис, Сальвендрр, лужки, ручейки, любовь свежая, ясная, языческая, и томление сладостное и отнюдь не трагическое — вот о чём поют эти свежие песни» (Б. Еверинов); «Какая чистота звука, какая крепкая законченная и устойчивая форма в последних стихотворениях Сологуба! Сложность стала простотой, и туман рассеялся в прозрачности. Его бержеретты — это французский XVIII век, увиденный глазами Пушкина» (К. В. Мочульский). В 1922 весь цикл был выпущен отдельным изданием.
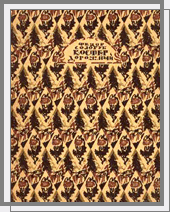 С конца 1921 года книги Сологуба начинают издаваться и в Советской России: выходят поэтические сборники «Фимиамы» (1921), «Одна любовь» (1921), «Костёр дорожный» (1922), «Соборный благовест» (1922), «Чародейная чаша» (1922), роман «Заклинательница змей» (1921), отдельное иллюстрированное издание новеллы «Царица поцелуев» (1921), переводы (Оноре де Бальзак, Поль Верлен, Генрих фон Клейст). Тоненькие сборники брошюрного формата тех лет до сих пор можно нередко увидеть в букинистических лавках Петербурга и Москвы. С конца 1921 года книги Сологуба начинают издаваться и в Советской России: выходят поэтические сборники «Фимиамы» (1921), «Одна любовь» (1921), «Костёр дорожный» (1922), «Соборный благовест» (1922), «Чародейная чаша» (1922), роман «Заклинательница змей» (1921), отдельное иллюстрированное издание новеллы «Царица поцелуев» (1921), переводы (Оноре де Бальзак, Поль Верлен, Генрих фон Клейст). Тоненькие сборники брошюрного формата тех лет до сих пор можно нередко увидеть в букинистических лавках Петербурга и Москвы.
Новые книги стихов определяли те же настроения, намеченные в «Небе голубом». Наравне с преобладавшими стихотворениями последних лет, были помещены и те, что были написаны несколько десятилетий тому назад. Своею цельностью особенно выделялся сборник «Чародейная чаша», несмотря на то, что в нём всего 24 стихотворения, семь из которых уже побывали в «Небе голубом» (Сологуб же в примечании говорит, что все они печатаются впервые — видимо, имея в виду, впервые для российских читателей). Но книжка, где каждое стихотворение — шедевр, прошла незамеченной...
Бога милого, крылатого
Осторожнее зови.
Бойся пламени заклятого
Сожигающей любви.
А сойдёт путём негаданным,
В разгораньи ль ясных зорь,
Или в томном дыме ладанном,—
Покоряйся и не спорь.
Прячет лик свой под личинами,
Надевает шёлк на бронь,
И крылами лебедиными
Кроет острых крыл огонь.
Не дивися, не выведывай,
Из каких пришёл он стран,
И не всматривайся в бредовый,
Обольстительный туман.
Горе Эльзам, чутко внемлющим
Про таинственный Грааль, —
В лодке с лебедем недремлющим
Лоэнгрин умчится вдаль,
Вещей тайны не разгадывай,
Не срывай его личин.
Силой Боговой иль адовой,
Всё равно, он — властелин.
Пронесёт тебя над бездною.
Проведёт сквозь топь болот,
Цепь стальную, дверь железную
Алой розой рассечёт.
Упадёт с ноги сандалия,
Скажет змею: — Не ужаль! —
Из цианистого калия
Сладкий сделает миндаль.
Если скажет: — Всё я сделаю! —
Не проси лишь об одном:
Зевс, представши пред Семелою,
Опалил её огнём.
Беспокровною Дианою
Любовался Актеон,
Но, оленем став, нежданною
Гибелью был поражён.
Пред законами суровыми
Никуда не убежим.
Бог приходит под покровами,
Лик его непостижим.
(6 мая 1921)
Из кн. «Чародейная чаша».
Между новыми стихами в «Чародейную чашу» попало и старое, таившееся в архиве писателя тридцать лет:
В угрюмой, далёкой пещере,
В заклятой молчаньем стране
Лежит уже много столетий
Поэт в зачарованном сне.
Не тлеет прекрасное тело,
Не ржавеют арфа и меч,
И ткани расшитой одежды
С холодных не падают плеч.
С тех пор, как прикрыли поэта
Тенета волшебного сна,
Подпала зароку молчанья
Отвергшая песни страна.
И доступа нет к той пещере.
Туда и высокий орёл,
Хоть зорки крылатые очи,
А всё же пути не нашёл.
Одной только деве доступно
Из всех, кто рождён на земле,
В святую проникнуть пещеру,
Витать в очарованной мгле,
Склоняться к холодному телу,
Целуя немые уста,
Но дева та — муза поэта,
Зажжённая в небе мечта.
Она и меня посещала
Порою в ночной тишине,
И быль о заклятом поэте
Шептала доверчиво мне.
Не раз прерывался слезами
Её простодушный рассказ,
И вещее слово расслышать
Мешали мне слёзы не раз.
Покинуть меня торопилась, —
Опять бы с поэтом побыть,
Глядеть на спокойные руки,
Дыханием арфу будить.
Прощаясь со мною, тревожно
Она вопрошала меня:
— Ты знаешь ли, скоро ли вспыхнет
Заря незакатного дня?
— Ах, если бы с росною розой
Могла я сегодня принесть
Печалью пленённому другу
Зарёй осиянную весть!
— Он знает: сменяются годы,
Столетия пыльно бегут,
А люди блуждают во мраке,
И дня беззакатного ждут.
— Дождутся ль? Светло торжествуя,
Проснётся ли милый поэт?
Иль к вечно-цветущему раю
Пути вожделенного нет?
Поэт у Фёдора Сологуба всегда «вещий», «оракул» в истинном античном значении. Поэт — ваятель жизни, он, «размышляющий и мечтающий, придумывает новую форму жизни, и внушает людям желание воплотить его творческий замысел». Предельно чётко, немного даже вызывающе, такое видение поэта Сологуб выразил на юбилее Константина Бальмонта в 1920 году: «Не надо равенства. Поэт — редкий гость на земле. Поэт — воскресный день и праздник Мира. У поэта — каждый день праздник. Не все люди — поэты. Среди миллиона — один настоящий» (при словах Сологуба «не надо равенства» вся толпа заговорила в один голос: «Как кому! Как кому! Не всем! Не всегда!»). Такое исключительное право поэта, редко признаваемое «на земле» закрепляется даже небесными служителями:
...
Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Пётр, гремя ключами, спросит:
«Что сделал ты?» — меня он вниз
Железным посохом не сбросит.
Скажу: «Слагал романы и стихи,
И утешал, но и вводил в соблазны,
И вообще, мои грехи,
Апостол Пётр, многообразны.
Но я — поэт». И улыбнётся он,
И разорвёт грехов рукописанье,
И смело в рай войду прощён,
Внимать святое ликованье.
...
(«Я испытал превратности судеб...», кн. «Фимиамы»)
Тема земли — географической, духовной, религиозной, — непреходящая с самого раннего творчества Сологуба, получила в новых стихах новый оттенок: когда в квартире температура ниже нуля, пишутся строчки о Мадакаскаре и Элизийских полях, когда серый грязный город, каким в те годы стала северная столица, внушает только отвращение и раздражение.
Скифские суровые дали,
Холодная, тёмная родина моя,
Где я изнемог от печали,
Где змея душит моего соловья!
Родился бы я на Мадагаскаре,
Говорил бы наречием, где много «а»,
Слагал бы поэмы о любовном пожаре,
О нагих красавицах на острове Самоа.
Дома ходил бы я совсем голый,
Только малою алою тканью бёдра объяв,
Упивался бы я, бескрайно весёлый,
Дыханьем тропических трав.
(Из кн. «Фимиамы»)
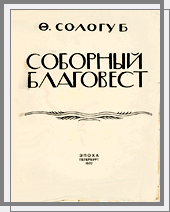 Перед «Чародейной чашей» вышел «Соборный благовест», сборник революционных и патриотических стихов, скрупулёзно продатированных, видимо, чтобы были очевидны демократические настроения поэта на протяжении более чем 30-летнего периода. Сборник явился обновлённой версией «Родине»: первая половина «Соборного благовеста» почти полностью повторяет 5-ю книгу стихов 1906 года, вторая половина состоит из стихотворений 1914—20 гг., часть из которых тоже уже была напечатана ранее. Через год в «Государственном издательстве» вышел расширенный вариант самого «Соборного благовеста» под названием «Великий благовест». Перед «Чародейной чашей» вышел «Соборный благовест», сборник революционных и патриотических стихов, скрупулёзно продатированных, видимо, чтобы были очевидны демократические настроения поэта на протяжении более чем 30-летнего периода. Сборник явился обновлённой версией «Родине»: первая половина «Соборного благовеста» почти полностью повторяет 5-ю книгу стихов 1906 года, вторая половина состоит из стихотворений 1914—20 гг., часть из которых тоже уже была напечатана ранее. Через год в «Государственном издательстве» вышел расширенный вариант самого «Соборного благовеста» под названием «Великий благовест».
Весной 1922 года Сологуб вновь обратился к поэзии Поля Верлена, и тогда были сделаны как новые переводы, так и правка прежде опубликованных в книге 1908 года. Переводы стихотворений из «католической» книги Верлена «Мудрость», осуществлённые тогда же, Сологуб поместил в альманахе «Стрелец» (1922), а через год в издательстве «Петроград» вышло второе издание книги переводов, со значительными изменениями. Были убраны эпиграфы, сняты иноязычные заглавия, исправлены некоторые стихи, двадцать переводов были подвергнуты правке (хотя зачастую это были почти новые переводы) и включены переводы, напечатанные в «Стрельце». Эту книгу переводов Верлена можно условно назвать последней новой книгой Фёдора Сологуба: все последующие были переизданиями либо оригинальных прежних книг, либо переводов: в 1922 году издательство З. И. Гржебина (Берлин—Петербург—Москва) переиздало восьмую книгу стихов «Пламенный круг» с небольшими изменениями в композиции, а также «Мелкий бес» (9-е изд., 1923); в 1925 году вышли переводы романов Анри де Ренье «Дважды любимая», «Сильна как смерть» Мопассана и «Четыре дьявола» Г. Банга; наконец, в 1926 году вышло последнее прижизненное издание «Мелкого беса».

XVIII
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Юбилей Сологуба — Работа в Союзе Писателей — Новые стихи — Круг общения — Последние дни
(1922—1927)
 ОЛОГУБ ОСТАЛСЯ в Советской России. В оставшиеся до смерти годы поэт продолжал плодотворно трудиться, много писал — и всё «в стол». Не печатали. Чтобы продолжать активную литературную деятельность в таких условиях Сологуб с головой ушёл в работу петербургского Союза Писателей, столь уместно соединившую его прежний навык работы учителем, любовь к организации и собственный интерес к литературе. Были порывы уехать, но знал, что его не выпустят. Иногда проскальзывала обида на октябрьский переворот («Сейчас бы в автомобиле ездил»), но то лишь в моменты меланхолии. В целом, писатель с холодным презрением смотрел на уходившую от него всё дальше жизнь советской страны («Умерщвлю я все тревоги, // И житейский сорный хлам...»). В отношении России, той России, в которую верил, он понял, что её нет: ОЛОГУБ ОСТАЛСЯ в Советской России. В оставшиеся до смерти годы поэт продолжал плодотворно трудиться, много писал — и всё «в стол». Не печатали. Чтобы продолжать активную литературную деятельность в таких условиях Сологуб с головой ушёл в работу петербургского Союза Писателей, столь уместно соединившую его прежний навык работы учителем, любовь к организации и собственный интерес к литературе. Были порывы уехать, но знал, что его не выпустят. Иногда проскальзывала обида на октябрьский переворот («Сейчас бы в автомобиле ездил»), но то лишь в моменты меланхолии. В целом, писатель с холодным презрением смотрел на уходившую от него всё дальше жизнь советской страны («Умерщвлю я все тревоги, // И житейский сорный хлам...»). В отношении России, той России, в которую верил, он понял, что её нет:
Налей в бокал какое хочешь,
Я выпью всякое вино.
Мне ничего не напророчишь,
Всё кончено, всё решено.
И что же ты, моя Россия?
И что же о тебе мечты?
Куда ушла Анастасия,
Туда обрушилась и ты.
Но пламеневшая любовью
И в самой смерти спасена,
А ты, упившаяся кровью,
Какому тленью предана!
(28 июня 1922)
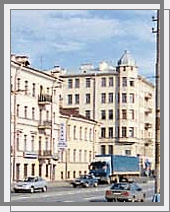 Через несколько недель после исчезновения жены Фёдор Сологуб переехал в дом на углу набережной реки Ждановки и Малого проспекта Петербургской Стороны, — там жила сестра Чеботаревской, Ольга Черносвитова, к которой в тот несчастный день отправилась Анастасия Николаевна. Сологуб занял квартиру (№ 22) на втором этаже, а в 1923 году переселился выше в квартиру Черносвитовых (№ 26). Соседом по дому вскоре стал писатель Алексей Толстой, вернувшийся из эмиграции. Неподалёку жил художник Борис Кустодиев, автор известного портрета (1907) и бюста (1912) Сологуба. Старый поэт часто любил, не изменив своей юной привычке, по ночам бродить босиком по улицам Петербургской Стороны. Так сложились типично сологубовские незатейливые строки «Привык уж я к ночным прогулкам...», «Алкогольная зыбкая вьюга...» и другие, которые перекликаются со стихами 1880-х гг. Через несколько недель после исчезновения жены Фёдор Сологуб переехал в дом на углу набережной реки Ждановки и Малого проспекта Петербургской Стороны, — там жила сестра Чеботаревской, Ольга Черносвитова, к которой в тот несчастный день отправилась Анастасия Николаевна. Сологуб занял квартиру (№ 22) на втором этаже, а в 1923 году переселился выше в квартиру Черносвитовых (№ 26). Соседом по дому вскоре стал писатель Алексей Толстой, вернувшийся из эмиграции. Неподалёку жил художник Борис Кустодиев, автор известного портрета (1907) и бюста (1912) Сологуба. Старый поэт часто любил, не изменив своей юной привычке, по ночам бродить босиком по улицам Петербургской Стороны. Так сложились типично сологубовские незатейливые строки «Привык уж я к ночным прогулкам...», «Алкогольная зыбкая вьюга...» и другие, которые перекликаются со стихами 1880-х гг.
Алкогольная зыбкая вьюга
Зашатает порой в тишине.
Поздно ночью прохожий пьянчуга
Подошёл на Введенской ко мне.
«Вишь, до Гатчинской надо добраться,—
Он сказал мне с дрожанием век,—
Так не можете ль вы постараться
Мне помочь, молодой человек?»
Подивившись негаданной кличке,
Показал я ему, как пройти,
А потом, по давнишней привычке,
Попытался разгадку найти.
Впрочем, нечему здесь удивляться:
По ночам я люблю босиком
Час-другой кое-где прошататься,
Чтобы крепче спалося потом.
Плешь прикрыта поношенной кепкой,
Гладко выбрит, иду я босой,
И решил разуменьем некрепкий,
Что я, значит, парнишка простой.
Я ночною прогулкой доволен:
Видно, всё ещё я не ломлюсь.
Хорошо, что я в детстве не холен,
Что хоть пьяному юным кажусь.
(11 октября 1923)
Последним большим общественным событием в жизни Фёдора Сологуба стало празднование его юбилея — сорокалетие литературной деятельности, — отмеченое 11 февраля 1924 года.  Чествование, организованное друзьями писателя, проходило в зале Александринского театра и собрало множество публики. Венки, телеграммы-поздравления пришли от всех культурных организаций СССР. На сцене с речами выступили Е. Замятин, М. Кузмин, Андрей Белый, О. Мандельштам; среди организаторов торжества — А. Ахматова, А. Волынский, Вс. Рождественский. Как отмечал один из гостей, всё проходило так великолепно, «как будто все забыли, что живут при советской власти». Евгений Замятин, главный устроитель юбилея, вскоре опубликовал статью о природе творчества Сологуба, раскрывающую сокровенные ценнности и самого Замятина: Чествование, организованное друзьями писателя, проходило в зале Александринского театра и собрало множество публики. Венки, телеграммы-поздравления пришли от всех культурных организаций СССР. На сцене с речами выступили Е. Замятин, М. Кузмин, Андрей Белый, О. Мандельштам; среди организаторов торжества — А. Ахматова, А. Волынский, Вс. Рождественский. Как отмечал один из гостей, всё проходило так великолепно, «как будто все забыли, что живут при советской власти». Евгений Замятин, главный устроитель юбилея, вскоре опубликовал статью о природе творчества Сологуба, раскрывающую сокровенные ценнности и самого Замятина:
...Слово приручено Сологубом настолько, что он позволяет себе даже игру с этой опасной стихией, он сгибает традиционный прямой стиль русской прозы. В «Мелком бесе» и «Навьих чарах», во многом в своих рассказах он непременно смешивает крепчайшую вытяжку бытового языка с приподнятым и изысканным языком романтика... Всей своей прозой Сологуб круто сворачивает с наезженных путей натурализма — бытового, языковового, психологического. И в стилистических исканиях новейшей русской прозы, в её борьбе с традициями натурализма, в её попытках перекинуть какой-то мостик на Запад — во всём этом мы увидим тень Сологуба...
...Если бы вместе с остротой и утончённостью европейской Сологуб ассимилировал и механическую, опустошенную душу европейца, он не был бы тем Сологубом, который нам так близок. Но под строгим, выдержанным европейским платьем Сологуб сохранил безудержную русскую душу. Эта любовь, требующая всё или ничего, эта нелепая, неизлечимая, прекрасная болезнь — болезнь не только Сологуба, не только Дон-Кихота, не только Блока (Блок именно от этой болезни и умер) — это наша русская болезнь, Morbus rossica... («Белая любовь», 1925)
Это торжество парадоксально оказалось прощанием русской литературы с Фёдором Сологубом: никто из тогдашних поздравителей, равно как и сам поэт, не предполагал, что после праздника не выйдет ни одной его новой книги. Была надежда на переводы, которыми Сологуб плотно занялся в 1923—24 гг. Начал с Артюра Рембо и Виктора Гюго, затем осуществил первый полный перевод прованской поэмы Фредерика Мистраля «Мирея», по окончанию которого по предложению Григория Петникова принялся за стихи немецких экспрессионистов (И. Голл, П. Цех, К. Гейнике, Ф. Верфель, Г. Гейм, Я. ван Годдис, Г. Бенн); летом 1924 года Сологуб обратился к «Кобзарю» Тараса Шевченко. Из всей этой работы при жизни Сологуба увидели свет лишь немецкие переводы, вышедшие в 1926 году в Харькове в составе антологии «Молодая Германия». «Кобзарь» вышел в середине 30-х гг., а «Мирея», переводы из Гюго так и остаются неопубликованными. Сологуб придавал переводам финансовое значение, но вряд ли при этом насиловал себя ими художественном плане — иначе бы занялся ими более широко и активно, а ведь с лета 1924 года Сологуб перестал переводить. Хотя, может быть, повлияло как раз то, что отдачи от этих переводов не было: как сказано выше, переводы в печать не попадали. Иванов-Разумник видел в таком ремесле вынужденность: «Конечно, хорошие переводы — дело полезное и почтенное; но заставить Сологуба заниматься ими, значило то же самое, как будто Менделеева засадили в гимназию преподавателем химии и физики». Забросив заниматься переводами, Сологуб весь ушёл в работу Всероссийского Союза Писателей в Петербурге.
 В Союз Писателей Фёдор Сологуб вступил ещё в марте 1920 года, — тогда это давало законную возможность получать пайки, — но из рядового члена в деятельного работника Сологуб превратился после закрытия в 1924 году издательства «Всемирная литература», в редакционной коллегии которого он состоял. В Союзе Писателей в апреле того же года Сологуб возглавил Секцию переводчиков, а затем занял пост председателя Секции детской литературы (в неё тогда входили К. Чуковский, С. Я. Маршак, В. И. Анненский-Кривич, Е. Я. Данько). Наконец, в январе 1926 года Сологуб был избран Председателем Петербургского отделения Всероссийского Союза Писателей, которым оставался вплоть до своей смерти. Деятельность в Союзе Писателей позволила Сологубу предолеть одиночество, заполнив всё его время, и расширить круг общения: ведь к тому времени почти все бывшие крупные писатели и поэты дореволюционной России, к среде которых принадлежал Сологуб, оказались заграницей. Еженедельные заседания писателей, резолюции — всё это очень шло Сологубу, любившему порядок и организацию, хотя приходилось работать в атмосфере всё больше ощущаемого гнёта. «...Пустота, ощущение, что нет воздуха, что нависла какая-то глыба. Ещё никогда в нашем писательском кругу не было такого гнетущего настроения — настроения опустошённости, стеклянного колпака. [...] Сникли и посерели все» (из записи писателя А. Соболя от 13 января 1926 года). На диспуте Союза Писателей в июне 1925 года Сологуб мрачно заметил, что «сейчас вообще невыгодно заниматься художественным творчеством». В Союз Писателей Фёдор Сологуб вступил ещё в марте 1920 года, — тогда это давало законную возможность получать пайки, — но из рядового члена в деятельного работника Сологуб превратился после закрытия в 1924 году издательства «Всемирная литература», в редакционной коллегии которого он состоял. В Союзе Писателей в апреле того же года Сологуб возглавил Секцию переводчиков, а затем занял пост председателя Секции детской литературы (в неё тогда входили К. Чуковский, С. Я. Маршак, В. И. Анненский-Кривич, Е. Я. Данько). Наконец, в январе 1926 года Сологуб был избран Председателем Петербургского отделения Всероссийского Союза Писателей, которым оставался вплоть до своей смерти. Деятельность в Союзе Писателей позволила Сологубу предолеть одиночество, заполнив всё его время, и расширить круг общения: ведь к тому времени почти все бывшие крупные писатели и поэты дореволюционной России, к среде которых принадлежал Сологуб, оказались заграницей. Еженедельные заседания писателей, резолюции — всё это очень шло Сологубу, любившему порядок и организацию, хотя приходилось работать в атмосфере всё больше ощущаемого гнёта. «...Пустота, ощущение, что нет воздуха, что нависла какая-то глыба. Ещё никогда в нашем писательском кругу не было такого гнетущего настроения — настроения опустошённости, стеклянного колпака. [...] Сникли и посерели все» (из записи писателя А. Соболя от 13 января 1926 года). На диспуте Союза Писателей в июне 1925 года Сологуб мрачно заметил, что «сейчас вообще невыгодно заниматься художественным творчеством».
В середине 20-х гг. Сологуб вернулся к публичным выступлениям с чтением стихов. Как правило, они проходили в форме «вечеров писателей», где наряду с Сологубом выступали А. А. Ахматова, Е. Замятин, А. Н. Толстой, М. Зощенко, Вс. Рождественский, К. Федин, К. Вагинов и др. По свидетельству одного из организаторов имя Сологуба на афише уже заранее обеспечивало успех мероприятия. Новые стихи Сологуба только и можно было услышать из уст автора с петербургских и царкосельских эстрад (летние месяцы 1924—27 гг. Сологуб проводил в Царском Селе), так как в печати они не появлялись. Стихи были замечательные. Перестав писать прозу и драмы, Сологуб отдался целиком чистой лирике (правда, эпизодически возникали планы по написанию романа, пьес — но всё это осталось лишь в набросках). «Давнишний любитель и ценитель стихов Сологуба, — писал Р В. Иванов-Разумник, разбиравший архив поэта, — я все же был поражён великой простотой этих последних его стихотворений, экономией слов и образов, отказом от всякого былого "барокко". Вспомнился недавний разговор с ним в Царском Селе: "сперва восхищаешься роскошью Растрелли, а к старости начинаешь ценить величавую простоту Камерона"... Поэт-Сологуб всегда был "прост", но теперь трудная эта простота дошла до пределов классичности». Стихи того времени прониклись прежними, давними переживаниями, настроениями тоски и одиночества, усталости, — но настроения новые не были мрачно-враждебны, как в 1890-е гг., а были они спокойно и грустно приняты поэтом.
Всё дано мне в преизбытке,—
Утомление труда,
Ожиданий злые пытки,
Голод, холод и беда,
Дёготь ярых поношений,
Строгой славы горький мёд,
Яд безумных искушений,
И отчаяния лёд,
И,— венец воспоминанья,
Кубок, выпитый до дна,—
Незабвенных уст лобзанья,—
Всё,— лишь радость не дана.
(19 июля 1922)
Ещё:
Сердце мне ты вновь, луна, тревожишь;
Знаю, чары деять ты вольна,
Но моей печали не умножишь
Даже ты, печальная луна.
Ночь, свой белый гнёт и ты наложишь,
И с тобою спорить мне невмочь,
Но тоски моей ты не умножишь,
Даже ты, тоскующая ночь.
(17 июня 1923)
И это в то время, когда каждая страница книг новых поэтов кипела, грохотала, взывала, прославляла, неутомимо и бездарно, когда красота, поклонение красоте считалось чуть ли не преступным, о чём Сологуб сложил ядовитую басню:
Соловей и Осёл
Распелся Соловей над белой вешней Розой.
На ту беду в кусты пришёл
И заревел на Соловья с угрозой
Большой Осёл:
Он был один из тех, вы знаете, уродов,
Которые всегда позор своих же родов.
«Зачем поёшь? О чём поёшь?
Ослам к чему же роза?
Небось, нам песенки не заведёшь
О крепком запахе навоза!
Поёшь, как плачешь ты,— с каких таких причин?
С ума, островитянин, спятил?
Послушай, как долбит, как славит стук машин
Поэт наш пролетарский, Дятел!
Ты на носу бы зарубил,
Что сладких буржуазных арий
Не должен слушать пролетарий.
И о цветах, как видно, ты забыл,
Какие воспевать прилично!» —
Заголосил
Осёл усердно, зычно,
Но всё ж не очень гармонично.
Как быть теперь тебе, мой бедный Соловей,
Да и тебе, пленительная Роза?
Бояться ли речей
Любителя навоза?
За Розу и за Соловья
Ослу отвечу я:
Конечно, бесполезна Роза,
Но кто ж, Осёл, сказал, что пролетарский нос
Так жаден к прелестям навоза,
Что нюхать ни за что не станет вешних роз?
Ведь этак рявкнешь ты, пред хлебной стоя лавкой:
«Зачем так ситный бел?
Пусть белый хлеб буржуй бы ел,
А ты, рабочий, чёрный чавкай!»
Всего Сологуб написал около дюжины антисоветских басен (в начале 1925 и весной 1926 года), читались они лишь в узком кругу. По свидетельству Р. В. Иванова-Разумника, 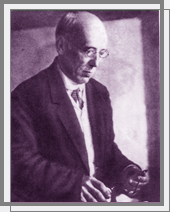 «Сологуб до конца дней своих люто ненавидел советскую власть, а большевиков не называл иначе, как "туполобые"». В качестве внутренней оппозиции режиму (особенно после того, вопрос с эмиграцией отпал) был отказ от новой орфографии и нового стиля летоисчисления в творчестве и личной переписке. «Сологуб до конца дней своих люто ненавидел советскую власть, а большевиков не называл иначе, как "туполобые"». В качестве внутренней оппозиции режиму (особенно после того, вопрос с эмиграцией отпал) был отказ от новой орфографии и нового стиля летоисчисления в творчестве и личной переписке.
С конца 1925 года по вторникам у Фёдора Сологуба стал собираться кружок поэтов. «Вечера на Ждановке» вернулись к духу литературных встреч, которые проходили у Фёдора Кузьмича на рубеже 1890-1900-х гг., когда главенствующим было чтение стихов. Приходили старые знакомые: Анна Ахматова, Иванов-Разумник, Юрий Верховский, Корней Чуковский, Валентин Кривич-Анненский, но ядро вечеров составили поэты «Ленинградской Ассоциации Неоклассиков»: Вл. В. Смиренский, М. В. Борисоглебский, Е. Я. Данько. Тогда же Сологуб, по просьбе членов Ассоциации, был избран её председателем. Борисоглебский (он и Смиренский были секретарями Сологуба в Союзе Писателей) вспоминал:
С Сологубом можно было вести беседы на самые разные и далёкие друг другу темы. Меня поражали его обширнейшие знания и интересы даже в областях, далёких от искусства, сочетавшиеся с поразительной логикой и чёткостью мышления.
Владимир Смиренский, будущий исследователь творчества К. Фофанова, оставил не только интересные воспоминания о Фёдоре Сологубе 20-х гг., но и записал множество живых высказываний поэта.
* * *
В мае 1927 года, в разгар работы над романом в стихах «Григорий Казарин», Фёдор Сологуб серьёзно заболел. Болен он было давно, и болезнь до того более-менее удавалось подавить, теперь же осложнение оказалось неизлечимым. С лета Фёдор Кузьмич уже почти не вставал с постели. Лечебные консультации ему оказывала сестра Ан. Н. Чеботаревской — Татьяна, известный педиатр, проживавшая в Москве; одним из постоянных советов было меньше курить — Сологуб всю жизнь был заядлым курильщиком — отчего ему было трудно отказаться. Её усилиями приглашались различные доктора, писатель проходил обследования в больницах, но ничего не помогало. Весь уход за больным писателем взяла на себя его свояченица Ольга Черносвитова. Осенью началось обострение болезни. Умирал поэто долго и мучительно. «Хоть бы ещё походить по этой земле» — говорил он, отчаянно не желая умирать... мечтал продолжить любимую работу в Союзе Писателей.
В начале осени того же года Сологуб передал Иванову-Разумнику кипу тетрадей стихов, дабы выбрать лучшие: тогда стараниями друзей Сологуба появилась слабая надежда на издание нового поэтического сборника Сологуба в «Государственном издательстве». К середине октября стихи были отобраны, и композиция книги была утверждена самим поэтом. Но в печать сборник так никогда и не попал, переговоры с издательством закончились ничем («сборник был признан "не-актуальным", а отдельные его стихотворения - "контрреволюционными"», — вспоминал позже Иванов-Разумник). Председательсво в Союзе Писателей СССР не давало Сологубу никаких привилегий: его собственные произведения не проходили в печать. А за полгода до этого Сологуб сам составил два сборника — «Атолл» и «Грумант» из стихотворений 1925—27 гг., но также очевидно без особой надежды на издание («Мечтал о том, что ему ещё удастся напечатать новые рассказы, новые стихи, но в трезвые минуты сам понимал, что мечты эти — несбыточные и что печататься ему не дадут».).
Открыл, меня создавши, Ты
Ларец лазоревой эмали,
И подарил мне три мечты,
Три шороха и три печали,
Я сплел в пылающий венок
Твои дары, скрепил их кровью.
Один я, но не одинок
С моей бессмертною любовью.
Приходят и проходят дни,
Слабеют страсти и желанья,
Но мой венок в ночной тени
Хранит бессмертные пыланья.
(Из сб. «Атолл»)
Одно из последних стихотворений было посвящено Петербургу, городу обычно скупо изображаемому Сологубом, коренным петербуржцем, и прозе и в лирике. В этих классических стихах Сологуб закончил поэтическую мифологию Петербурга Серебряного века.
День окутался туманом
Ржаво-серым и хмельным.
Петербург с его обманом
Весь растаял, словно дым.
Город, выросший в пустыне,
Прихоть дикого Петра,
От которого поныне
Всё не вижу я добра,
Погрузится ли он в воду,
Новым племенем забыт,
Иль желанную свободу
Всем народам возвестит?
День грядущий нам неведом,
День минувший нам постыл,
И живём мы сонным бредом
Дотлевающих могил.
Это тленье, или ропот
Набегающей волны,
Или вновь возникший опыт
Пробудившейся страны,
Что решит твой жребий темный,
Или славный, может быть?
Что придётся внукам вспомнить,
Что придётся позабыть?
(Из сб. «Грумант»)
Повествуя о последних годах Сологуба, биографы традиционно завершают их стихотворением «Подыши ещё немного», которым завершалась композиция сборника «Атолл»:
Подыши ещё немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Странно зыблемый, как дым.
Что Творцу твои страданья?
Кратче мига — сотни лет.
Вот — одно воспоминанье,
Вот — и памяти уж нет.
Но как прежде — ярки зори,
И как прежде — ясен свет,
«Плещет море на просторе»,
Лишь тебя на свете нет.
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым,
Подыши ещё немного
Тяжким воздухом земным.
(30 июля 1927)
Последние стихотворения были написаны 1 октября 1927, одно из которых заканчивается с грустной обречённостью:
...
Ко всему я охладел.
Догорела жизнь моя.
Между прочим поседел,
Между прочим умер я.
Поэт сам не раз задумывался о сроках своей жизни и даже пытался вычислить дату смерти. Так в 1922 году он определил её 1928 годом, а в конце 1923 он говорил Н. Тихонову, что умрёт в мае 1934 года. Широко известно и его «В декабре я перестану жить» из триолета 1913 года. В чём-то все эти пророчества соединились. Умер Фёдор Сологуб 5 декабря. За несколько дней до смерти его подвели к камину, и он сжёг свои письма, рукопись неоконченного романа, но на стихи, как он сказал сам, «рука не поднялась». Похороны состоялись 7 декабря на Смоленском кладбище. Был похоронен рядом с могилой А. Н. Чеботаревской.
——————
Подлинная биография Фёдора Сологуба ещё ждёт своего появления, равно как и цельное исследование его творчества. Сам Сологуб по своей природе не мог бы 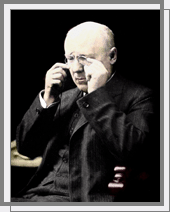 стать автором воспоминаний, а рассказать ему было что, — в конце концов, он, да, пожалуй, ещё Гиппиус и Бальмонт, целиком пережил период рождения и конца русского модернизма. Фёдор Сологуб, при кажущейся своей замкнутости, и, в самом деле, был в центре перипетий Серебряного века, корни которого уходят в дни первых русских декадентов. Он, конечно, не устраивал судьбы многих, как Брюсов, но к нему самому, поэту, тянулись почти все. За сотнями масок, которые надевали на него современники и лично знакомые с ним, и не было подлинного лица, — такого, которое нам бы сказало — да, это истинно я, такого лица Сологуба не дано нам узнать. Сологуб всю жизнь жил не только двойным измерением — внешним и внутренним, творческим, но и ещё одним, вряд ли ведомым даже ему, уходящим куда-то в темноту.... По поводу двойственности, проявлявшейся в его творчестве, З. Гиппиус отметила: «И в романах у него, и в рассказах, и в стихах — одна черта отличительная: тесное сплетение реального, обыденного, с волшебным. Сказка ходит в жизни, сказка обедает с нами за столом и не перестаёт быть сказкой». стать автором воспоминаний, а рассказать ему было что, — в конце концов, он, да, пожалуй, ещё Гиппиус и Бальмонт, целиком пережил период рождения и конца русского модернизма. Фёдор Сологуб, при кажущейся своей замкнутости, и, в самом деле, был в центре перипетий Серебряного века, корни которого уходят в дни первых русских декадентов. Он, конечно, не устраивал судьбы многих, как Брюсов, но к нему самому, поэту, тянулись почти все. За сотнями масок, которые надевали на него современники и лично знакомые с ним, и не было подлинного лица, — такого, которое нам бы сказало — да, это истинно я, такого лица Сологуба не дано нам узнать. Сологуб всю жизнь жил не только двойным измерением — внешним и внутренним, творческим, но и ещё одним, вряд ли ведомым даже ему, уходящим куда-то в темноту.... По поводу двойственности, проявлявшейся в его творчестве, З. Гиппиус отметила: «И в романах у него, и в рассказах, и в стихах — одна черта отличительная: тесное сплетение реального, обыденного, с волшебным. Сказка ходит в жизни, сказка обедает с нами за столом и не перестаёт быть сказкой».
Я созидал пленительные были
В моей мечте,
Не, что преданы тисненью были,
Совсем не те.
О тех я людям не промолвил слова,
Себя храня,
И двойника они узнали злого,
А не меня.
Быть может, людям здешним и не надо
Сны эти знать,
А мне какая горькая отрада —
Всегда молчать!
И знает бог, как тягостно молчанье,
Как больно мне
Томиться без конца в моём изгнаньи
В чужой стране.
(1923)

Полную информацию об изданных книгах Фёдора Сологуба можно найти в разделе БИБЛИОГРАФИЯ. Для большей наглядности чередования событий жизни поэта имеется Хронология жизни и творчества.
|